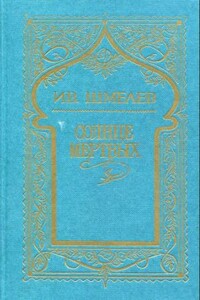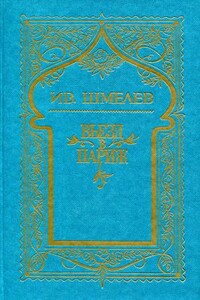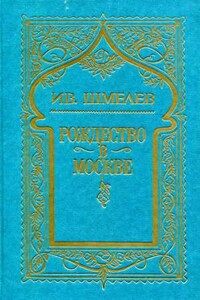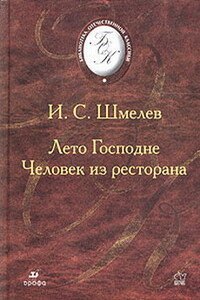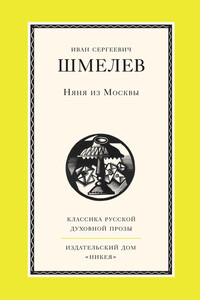– Извините-с, когда я самолично видел, как она на кровать садилась, на подушку, разные порошки трясла!.. – неистово орал Карих. – Не соблазните! Видите, что вышло, как сгубила!.. Можете съезжать, а не соблазните!.. Она даже в одной рубахе осмелилась являться!.. Запираться должен!.. Петуха испортили, теперь за меня взялись?…
– Сумашедший, за городовым надо! – кричали бахромщииы-ны девчонки. – Нельзя выйтить, за ни что попадя хватает!..
– Водой их прыскаю, окаянных! Позвольте-с, а кто мне вчера в фортку?… Если я к кому чувствую, так это… не скажу!.. Когда люди благородные, я плохого слова не скажу!.. В сумашедчий дом хотите?., завладеть капиталами?… Можете съезжать! Сделайте милость! Одна вон двоих погубила, тоже меня окрутить хотела. Есть свидетели! Они вон, девчонки ваши, к портным через забор сигают, через забор целуются, в дырку даже! Свидетели есть!.. Ихняя барышня, вот Пела-геи Ивановны-с… свидетельницы!
Посмеялись и разошлись. Карих окатился под колодцем и стал расчесываться.
Когда стемнело, мне стало опять страшно. В коридоре скрипели половицы. Прибежала Паша и замахала:
– Ступайте глядеть скорей, в какой их теятор увозят!..
Вся улица была запружена народом. Храпела лошадь. В тишине слышалось – «стой, чо…!». Со двора отзывался бык. Тетя Маша крестила улицу из окна. Когда уехали, все перекрестились: ну, слава Боту. Стало как будто легче. Во дворе заиграл на гар-монье кучер. Отдежуривший сутки Гришка напился пьяный. Легли все рано, все двери закрестили и замкнули.
Я учил греческий, когда постучала Паша.
– Пустите меня, Тоничка… боюсь… – просилась она робко. – Я буду тихо…?
– Ну, иди… – сказал я великодушно. – Я буду заниматься, а ты поспи на моей постели…
– Нет, нет… что вы!.. Я тут посижу, на креслах…
В углу у меня стояло продавленное кресло. Она села конфузливо и осторожно.
– Ты же не спала, бегала… – старался я говорить спокойно, а в голове стояло: «Пришла ко мне, сама, ночью!..» – Почему же не хочешь лечь?…
Паша заплела на ночь косы, перекинула их на грудь и стала совсем девчонкой.
– А вы-то?… Тоже ведь не спали… Завтра у вас екзамент.
– Я мужчина, – сказал я ей. – Конечно, одной жутко. Хотя это предрассудки. Они теперь уже трупы.
– И их-то страшно… – передернула плечом Паша… – а еще… Степан выпил, поймал меня на дворе… говорит: «А что, приду я к тебе сегодня!., через чердак у тебя не запирается, заберусь!» С пьяных глаз-то и самделе… еще напугает!..
– Негодяй! Да как он смеет?!
– Охальник. Говорит, не все тебе с ним, с вами, значит… Такой негодяй-охальник!.. Он мне давеча чего сказал!.. «Что, змея… хочешь меня губить?!» Я ему плюнула, а он: «Я себя не знаю, что ты со мной сделала, чисто опоила!.. Себя не помню!..» А глазищи, как у чумового!.. «Лучше ты, говорит, не шути… а то…» – и загрозился. Ну, гоняется за мной, как вихорь… Я его боюсь прямо!..
Я спросил, заперты ли в коридор двери. Запер на ключ свою.
– Все пристает – давай венчаться!.. – шептала Паша. – Накопил, говорит, три сотни… сманивает к графу Голицыну, в именье.
– Паша… – сказал я ей, – может быть, так лучше?… Она посмотрела на меня, как будто издалека.
– К вам привыкла… – сказала она просто. – День не видала, все скучала… Да вы учитесь, а я подремлю немножко.
Но я не мог учиться: из уголка белелось, дышала Паша. Я чувствовал волненье… Меня толкнуло, и я подошел к Паше. Она поглядела робко…
– Паша…
Она прошептала нежно:
– Ну что?…
Я упал перед ней на колени, но она выставила руки, не пускала.
– Миленький, не надо…а то уйду… И опустила руки.
– Паша…
– Ну что?…
Я стал целовать ей руки. Она мотнулась.
– Что вы со мною делаете… не надо… Она обняла меня за шею и крепко поцеловала в губы.
– Нет, будемте только целоваться… милый… первенький мой, хорошенький, чистенький… Никого не любил, правда? Никого, я знаю… мне тетя Маша говорила… дестенник он… мальчик…
– А ты, Паша?… – спросил я ее, целуя.
– Вот побожиться, вот… твоя буду… только… все равно, твоя буду… жениться тебе на мне нельзя, а… твоя буду…
Я молил ее, не зная о чем:
– Паша!..
Она вскочила и затрясла руками.
– Тебе учиться надо… на душе грех будет… Пойду вниз ляжу.