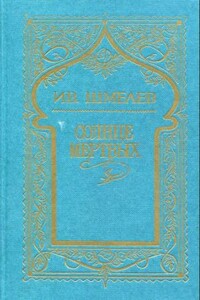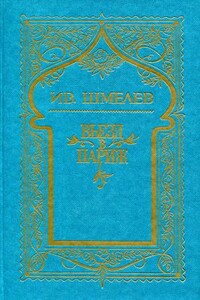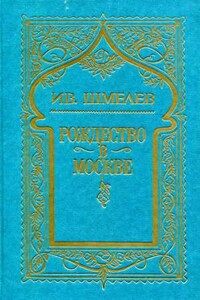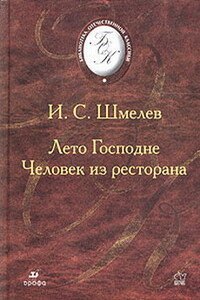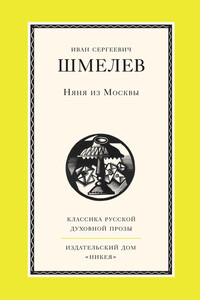Она подергала ногу, и я подергал. Мы смотрели в глаза друг другу, и что-то у нас было… И щетка была живая – сама Паша. Я схватил щетку и потянул, и мы принялись возиться. Она ловко вертела щеткой, выкручивая из рук и упорно смотря в глаза, и толкнула меня коленкой. Я почувствовал ее ногу, и меня обожгло огнем. Я перехватил за кисти и стал тянуть. Разгоревшееся ее лицо приблизилось, и я чуть не поцеловал ее. Губы ее кривились, глаза смеялись… Вдруг она строго зашептала:
– Оставьте… услышат, возимся… Нехорошо, оставьте… От ее шепота мне стало приятно-жутко, будто мы знаем что-то, только одни мы знаем, чего другие не могут знать. Я отнял руки.
– Сама начала возиться…! – сказал я, задыхаясь.
Она запыхалась тоже, измяла фартук. Глаза ее блестели.
– Рано вам возиться!.. – сказала она насмешливо, стукая под столом и взглядывая плутовато из-под локтя.
– Почему это рано?…
– Потому! Усы не выросли… Я не смог ничего ответить.
– Смотрите, не скажите! – погрозилась она от двери, разглаживая фартук. – Всю измяли, баловники…
Меня охватила радость, что она так сказала, что у нас с ней что-то, чего другие не могут знать.
Она ушла, а я долго ходил по комнате, вспоминая ее лицо и руки, и открытые пажом ноги.
Паша – женщина… и у меня с ней – что-то… Неужели мы с ней влюбились?! Она принесла подснежники…
Я стал разбирать каракули.
Как же дальше?… Боже, как это хорошо!.. «Ты мне даешь намек… Что полевой цветок… Увянет под косой жестокой! И буду горевать о деве синеокой!» Конец, больше ничего! Все. Но почему – увянет под косой? Очень понятно, потому что…
В восторге я засновал по комнате. «Синеокая дева… ты, Паша! Ты дева, но ты – женщина, чудная женщина! Ты придешь ко мне и скажешь, стыдливо прошепчешь: „я – твоя“!»
У меня замутилось в голове. Я наклонился к подснежникам и поцеловал их свежесть. Пахли они так нежно, тонко, как будто хлебом. Я увидал – «Первая любовь»! И страстно поцеловал страницу – Зинаиду. В голубом платье, стройная, с алыми свежими губами, как у Паши, она улыбалась мне.
– Ми-лая! – зашептал я страстно, сжимая пальцы, – приди ко мне… покажись мне, какая ты?!.
Я зажмурил глаза до боли. И увидал ее, создал воображением. Увидал – и забыл сейчас же.
А Паша уже на дворе, звала:
– Да Григорий!.. И куда его шут унес?…
– В трактир с земляком пошел… – сказал от сарая кучер. – Хочешь подсолнушков, угощу?
Через тополь мне было видно. В начищенных сапогах с набором, в черной тройке на синей шерстяной рубахе и в картузе блином сидел в холодочке кучер и грыз подсолнуш-ки, клевал в горсть. Паша подошла и зачерпнула, а он опустил горсть в ноги и защемил ей руку.
– Во, птичка-то на семечки попалась!..
– Да ну тебя, пусти… хозяева увидят! – запищала она, смеясь.
Мне стало неприятно, что она и с кучером смеется, – и как он смеет! – и я сказал про себя – болван! Она сбила с него картуз и вырвалась.
– У, демон страшный, – крикнула она со смехом уже с парадного, – свою заведи и тискай!
– В деревне свою забыл, далече… – лениво отозвался кучер, грызя подсолнушки.
«Молодчина, Паша!» – подумал я.
Зашла шарманка. Два голоса – девчонка и мальчишка – крикливо затянули:
Кого-то нет, ко-го-то жа-аль…
К кому-то сердце рвется в да-аль…!
Я высунулся в окошко, слушал. В утреннем свежем воздухе было приятно слушать. Весь двор сбежался. Явилась Паша. Поднялся кучер. Слушал и грыз подсолнушки. В клетке, на ящике, птички вытаскивали билетики – на счастье. Читал конторщик, совсем мальчишка, в шляпе, при галстуке шнурочком, с голубыми шариками, в манишке. Читал и смеялся с Пашей. Вырвал даже у ней билетик! Я не утерпел и вышел. Загаженные снегирь и клест таскали носиками билетики.
– А ну-ка, чего вам вынется? – сказала задорно Паша.
– Глупости, поощрять суеверия! – сказал я.
– Собственно, конечно-с… – сказал конторщик, – шутки ради, для смеху только, а не из соображения!
Он был прыщавый, – «больной и ерник», – рассказывал мне Гришка. Несло от него помадой.
– Ну-у, ужасно антересно, чего вам выйдет! – юлила Паша.
– Судьба играет человеком! – засмеялся конторщик. – Прасковье Мироновне вышло очень деликатно.