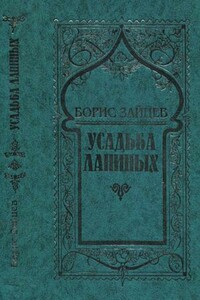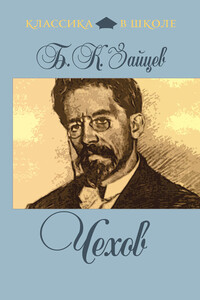«Эмиграция, – пишет Зайцев, – дала созерцать издали Россию, вначале трагическую, революционную, потом более ясную и покойную – давнюю, теперь легендарную Россию моего детства и юности. А еще далее в глубь времен – Россию „святой Руси“, которую без страдания революции, может быть, и не увидел бы никогда».
«Святая Русь» – термин славянофилов, еще в большей степени термин Достоевского, но у Зайцева он значит нечто иное. В зайцевском патриотизме нет ни политического империализма, ни вероисповедни-ческого шовинизма, ни пренебрежительного отношения к Европе. Его патриотизм носит чисто эротический характер, в нем нет ничего, кроме глубокой любви к России, даже нежной влюбленности в нее, тихую, ласковую, скромную и богоисполненную душу русской природы, которую Зайцев описывает отнюдь не как «передвижник»-реалист, но с явным налетом творческой стилизации. То, что он говорит о русском яблоневом саде, распространимо на всю русскую природу. Вся Россия для Зайцева – некий «скромный рай». Метель у него не просто метель, а некое «белое действо». Ока впадает у него не в Волгу, а в вечность, жеребенок на холме – не просто жеребенок, а призрак. «Орион», «Сириус», «голубая звезда Вега» вечно сияют у Зайцева над скромной нищетою русской земли, удостаивая ее и украшая за ее тишину.
Особенность зайцевских описаний природы в том, что, несмотря на их чуждую Чехову тронутость «символическими ознаменованиями», они никогда не теряют своей простоты и естественности и не приобретают патетического или хотя бы только возвышенного характера. Вот завязло колесо телеги в непролазной русской грязи, застрял на этом колесе и глаз писателя, а он восклицает, даже с каким-то особым лирическим волнением: «Что же поделаешь! Это родина, Россия!» Так восклицает, что невольно и сам подумаешь: не дай Бог начать у нас прокладывать шоссе или строить вместо задумчивых паромов железнодорожные мосты через реку. Тогда все пропадет.
Редкая среди русских писателей начала века встреча близкого Чехову импрессионистического реализма с явно символистическими моментами указывает на то место, которое Зайцев сразу же занял среди близких ему писателей.
Хотя Зайцев, как он рассказывает в заметке «Молодость – Россия», принадлежал к московской группе писателей-реалистов, генеральный штаб которой находился в горьковском издательстве «Знание», он с ними имел мало общего, хотя в молодости и отдал обязательную дань революционным увлечениям. Подобные черной молнии буревестники никогда не носились над его творчеством; в своих романах он никогда не занимался социальными анализами политической и экономической отсталости России, очень отличаясь в этом отношении от Горького, Шмелева, Куприна, Юшкевича и многих других. Стоя политически на правом фланге этих писателей-общественников, он, однако, как сам отмечает, вместе с Леонидом Андреевым представлял собою «левое модернистическое крыло», как стилистически, так и миросозерцательно очень еще далекое от символизма, но все же чем-то с ним перекликающееся. Сближая себя с Андреевым, Зайцев сближает Андреева с Александром Блоком.
«На самых верхах культуры, – пишет он, – Блок, может быть, выражал уже роковую трещину, которую простодушнее и провинци-альнее выражал Леонид Андреев: все-таки они друг к другу тяготели, что-то у них было общее».
Это общее, соединявшее Блока, Андреева и Зайцева, было, как мне кажется, не столько ощущение «роковой трещины», которую чувствовали и все социалистические буревестники, сколько чувство наличия в жизни и прежде всего в истории некоей сверхисторической реальности. Блоку это чувство подсказало образ Христа во главе красноармейцев:
В белом венчике из роз
Впереди Исус Христос.
На этот образ (из дневника Блока мы знаем, что появление Христа к концу поэмы для самого Блока было неожиданно и неприятно и что он долго ждал, чтобы Христос ушел из поэмы, чего тот, однако, не сделал) напала в свое время почти вся антикоммунистическая Россия, но вряд ли с достаточным основанием. Признавая, что без революции он, быть может, никогда не почувствовал бы святой Руси, Зайцев в сущности довольно близко подходит к вере Блока, что революция в своих бессознательных глубинах чем-то связана со Христом. Надо только, как правильно пишет Л. Ржевский, рассматривать «Двенадцать» не как поэтический репортаж, а как символ еще далекого грядущего возрождения. Лично мне думается, что не только Блок цикла России и стихов об Италии, но даже Блок «Двенадцати» все же много ближе Зайцеву, чем Леонид Андреев, от которого Борис Константинович весьма отличается своим духовным аристократизмом или, скажем проще, культурой. Что у Андреева был талант и даже очень большой талант, отрицать нельзя; почти в каждой из его вещей найдется несколько изумительных страниц, но в целом его творчество – плод обязательной эпохальной наглости («Капитанская дочка надоела, как барышня с Тверского бульвара») и мучительной миросозерцательной изжоги, вызываемой «проклятыми вопросами» жизни, – производит тяжелое впечатление. Сплющенный Достоевским – карамазовскнм неприятием мира и защитой зла старцем Зосимой, – Андреев то вскинет кулаки отца Василия Фивейского против «несуществующего Бога», то провозгласит устами желторотого студента: «Стыдно быть хорошим». Причислять Андреева к символистам, хотя бы в том приблизительном смысле, в каком это возможно по отношению к Зайцеву, нельзя.