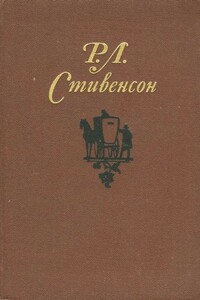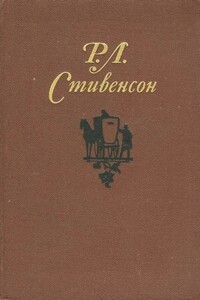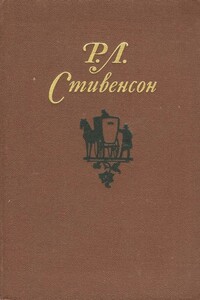До этой минуты лицо Роули, против ожидания, становилось все более и более трагически изумленным, на него, право же, стоило посмотреть, но при последних моих словах он внезапно просиял.
— А я ни капельки не боюсь! — сказал он, прыснул и продолжал, давясь от смеха. — Я ж так и знал с самого начала!
Мне захотелось его поколотить. Но я хватил через край, и пришлось теперь пустить в ход все свое красноречие и добрые две мили, чуть не полчаса, убеждать его, что все сказанное не выдумка и не преувеличение. Я так увлекся описанием нынешних опасностей, что совсем перестал заботиться о дальнейшей безопасности, и не только рассказал ему про Гогла, но не удержался и выложил все про гуртовщиков, а под конец проболтался и о том, что я наполеоновский солдат и военнопленный.
Когда я начинал разговор, все это отнюдь не входило в мои намерения: длинный язык — всегдашний мой враг. Мне кажется, это самый излюбленный судьбою недостаток. Ну кто из вас, людей благоразумных, мог бы поступить так безрассудно и вместе так мудро: довериться мальчишке, у которого и молоко-то на губах еще не обсохло? Но разве я потом хоть раз об этом пожалел? Препоны, стоявшие на моем пути, были таковы, что ни один советчик не оказался бы лучше этого зеленого юнца. Зачатки зрелого здравого смысла освещались у него последними отблесками детского воображения, и он способен был предаться мне с той беззаветностью, с какой подростки предаются игре. Роули был словно нарочно создан для меня. Его безмерно манила всевозможная романтика, и втайне он преклонялся перед всеми солдатами и преступниками. Он прихватил с собою в путь дешевое издание жизни Уоллеса[49] и несколько таких же грошовых выпусков «Записок старого судьи», принадлежащих перу стенографа Гарни, и этот выбор как нельзя лучше раскрывал его внутренний облик. Вообразите же, сколь воодушевили этого пылкого юнца открывшиеся перед ним горизонты. Быть слугой и спутником беглеца, солдата и убийцы — и все в одном лице, постоянно прибегать к всевозможным уловкам, маскараду, прикрываться вымышленными именами, одеться оболочкою полуночной тьмы и тайны — оболочкою столь плотной, что хоть ножом ее режь, — все это, конечно же, манило его куда сильнее вкусной и сытной пищи, хоть он и не дурак был поесть и был, можно даже сказать, обжора. Меня же — средоточие и источник всей этой романтики — он отныне воистину боготворил и скорее пожертвовал бы собственной рукою, нежели отказался от чести мне служить.
Мы брели по дороге под снегом, который с приближением утра повалил всерьез, и, дружески беседуя, установили исходные позиции предстоящей кампании. Я выбрал себе имя Рейморни, вероятно, оттого, что оно походило на Роумен, а Роули, повинуясь неодолимой прихоти, нарек Гэммоном. На его отчаяние невозможно было смотреть без смеха; сам он не нашел ничего лучше, как выбрать себе скромное имя Клод Дюваль![50] Мы уговорились, как вести себя в различных гостиницах, где будем останавливаться, и до тех пор репетировали все во всех подробностях, покуда не уверились, что нас невозможно застать врасплох; и можете не сомневаться, что во всех этих сценках сумка для бумаг играла не последнюю роль. Кто станет брать ее, кто укладывать в карету, кто сторожить, а кто класть под голову на ночь — ничего-то мы не упустили, все заранее тщательно предусмотрели; мы уподобились сержанту, обучающему новобранцев, и вместе — ребенку, увлеченному новой игрушкой.
— Послушайте, мистер Энн, а ведь покажется чудно, коли мы с вами явимся на почтовую станцию со всем нашим багажом, — сказал Роули.
— Да, пожалуй, — отвечал я. — Но что тут поделаешь?
— А вот я вам скажу, сэр... вы только послушайте, — начал Роули. — По-моему, лучше вам явиться на станцию одному, без всякого багажа... ну, в общем, как положено джентльмену. И вы скажете, что ваш слуга ждет с багажом при дороге. Я так думаю, я уж как-нибудь да справлюсь с этими окаянными вещами один... по крайности, если вы сперва поможете мне пристроить их половчее.
— Ну нет, Роули, — воскликнул я, — этого я не допущу! Да ты же окажешься совершенно беззащитен! Любой разбойник с большой дороги, новичок, молокосос, и тот с легкостью тебя ограбит. А когда я прикачу в карете, ты скорее всего будешь уже валяться в канаве с перерезанным горлом. Впрочем, тут есть и здравая мысль, давай-ка проверим ее на опыте, не откладывая в долгий ящик.