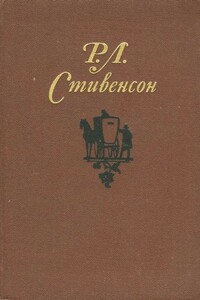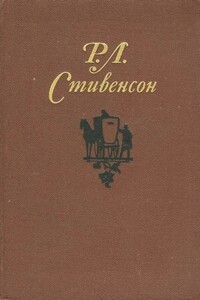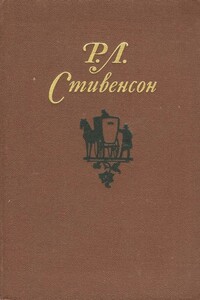По узкому коридору с несколькими поворотами он наконец привел нас в комнату больного, к самому изголовью постели. Я, кажется, забыл сказать, что покои графа были весьма просторны. Сейчас здесь толпились слуги и все прочие домочадцы, от доктора и священника до мистера Доусона и экономки, от мистера Доусона до Роули и до самого последнего ливрейного лакея в белых чулках, до самой последней пухленькой горничной в опрятном платье и чепчике, до последнего конюха в кожаном фартуке. Вся эта разношерстная публика или почти вся (а я, право, был удивлен, увидав такое многолюдное сборище) чувствовала себя сейчас не в своей тарелке; растерянные и смущенные люди переминались с ноги на ногу, ошалело таращили глаза, а те, что жались по углам, подталкивали друг друга локтями и исподтишка ухмылялись. Дядюшка же, которого приподняли на подушках выше, нежели когда я видел его в первый раз, был поистине внушительно серьезен. Едва мы появились у его изголовья, он громким голосом обратился ко всем присутствующим:
— Призываю вас всех в свидетели — вы меня слышите? — призываю вас всех в свидетели, что я признаю своим наследником и преемником вот этого джентльмена, которого все вы видите впервые, виконта Энна де Сент-Ива, моего племянника по младшей линии. И призываю вас также в свидетели, что по причинам весьма серьезным, о которых я предпочитаю умолчать, я отказался от своего прежнего решения и лишил наследства сего джентльмена, всем вам хорошо известного виконта де Сент-Ива. Я должен также объяснить, почему вынужден был столь неожиданно вас обеспокоить, я бы даже сказал, доставить вам неприятность, ибо оторвал вас от ужина. Мсье Алену угодно было угрожать мне тем, что он будет оспаривать мое завещание; он заявил, будто среди вас есть достойные доверия люди, которые готовы под присягой подтвердить все, что он им повелит. Я рад возможности помешать ему в этом и наложить печать молчания на уста его лживых свидетелей. Я бесконечно признателен вам за вашу любезность и имею честь пожелать вам доброй ночи.
В то время, как слуги, все еще крайне озадаченные, толпой выходили из комнаты больного — одни приседая, другие отвешивая поклоны, неуклюже расшаркиваясь и тому подобное сообразно своему званию и положению, — я оборотился и украдкой взглянул на кузена. Этот сокрушительный удар, к тому же нанесенный ему на людях, он выдержал и глазом не моргнув. Он стоял очень прямо, скрестив руки на груди и устремив непроницаемый взгляд в потолок. В ту минуту я не мог не отдать ему снова дань восхищения. И еще более он восхитил меня, когда, дождавшись, чтобы все слуги и домочадцы вышли и оставили нас одних с дядей и поверенным, он приблизился на шаг к постели, с достоинством поклонился человеку, который только что обрек его на совершенную нищету, и заговорил.
— Милорд, — сказал он, — как бы вы ни обошлись со мною, моя благодарность и ваше нездоровье равно мешают мне обсуждать ваши поступки. Не могу лишь не обратить ваше внимание на то, сколь долгое время меня приучали рассматривать себя как вашего наследника. В качестве такового я считал бы даже противоестественным жить не так, как подобает вашему преемнику. Ежели теперь в благодарность за двадцать лет преданности меня оставляют без гроша, я оказываюсь не только нищим, но и банкротом.
То ли недавняя речь утомила дядю, то ли столь изобретательна была его ненависть, но он лежал закрыв глаза и сейчас так и не раскрыл их. «Без гроша!» — только и ответил он, и при этих словах по лицу его скользнула престранная улыбка, на миг озарила сухие черты и мгновенно угасла, и снова перед нами была прежняя непроницаемая маска, неизгладимая печать старости, коварства и усталости. Сомнений быть не могло: дядя наслаждался происходящим, как не часто случалось ему наслаждаться за последние четверть века. Огонь жизни едва тлел в этом бренном теле; ненависть же, точно она и вправду была бессмертна, оставалась по-прежнему жгучей, годы ее не угасили.
Кузен мой, однако, упорствовал.
— Я нахожусь в весьма невыгодной позиции, — заговорил он снова. — Тот, кто занял мое место, все еще остается в вашей комнате — это, пожалуй, предусмотрительно, зато не слишком деликатно. — И он бросил на меня такой взгляд, каким можно было бы испепелить столетний дуб.