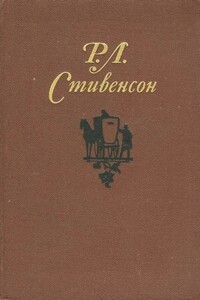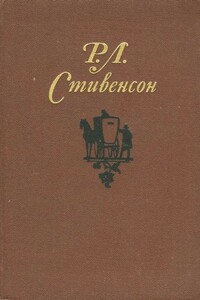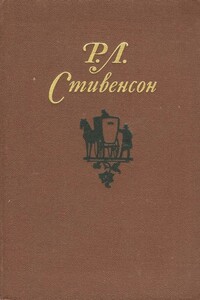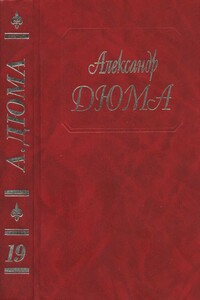— Вот этот очень ловко режет по дереву. А ведь правда, смешной — бакенбарды-то какие? — говорила она.
— А вон тот, — и лорнетом в золотой оправе она указывала на меня, — настоящий оригинал.
И можете мне поверить, что оригинал, слушая это, скрипел зубами. Она имела обыкновение затесаться в толпу и, кивая на все стороны, обращаться к нам, как ей казалось, по-французски.
— Bienne, hommes! Ça va bienne?[1]
В подобных случаях я брал на себя смелость ответствовать ей на том же ломаном языке:
— Bienne, femme! Ça va couci-couci tout d'même, la bourgeoise![2]
Тут все мы начинали смеяться несколько громче и веселее, нежели то дозволяли приличия, она же в ответ на эту тарабарщину с торжеством возглашала:
— Вот видите, говорила я вам: он настоящий оригинал!
Разумеется, такие сценки происходили до того, как я обратил внимание на ее племянницу.
В тот день, о котором я рассказываю, за тетушкой тащилась особенно многолюдная свита и, волоча ее за собой по базару, дама сия рассуждала пространней обыкновенного и притом еще менее деликатно, нежели всегда. Из-под опущенных век я глядел все в одном и том же направлении, но понапрасну. Тетушка подходила к пленникам и отходила, и выставляла напоказ то одного, то другого, точно обезьян в зверинце; но племянница держалась поодаль, в другом конце двора и удалилась, как и пришла, ничем не показав, что заметила меня. Я не спускал с нее глаз, видел, что она ни разу не обратила на меня взора, и сердце мое исполнилось горечи и уныния. Я вырвал из сердца ее ненавистный образ, я навеки покончил со своею мечтой, я безжалостно высмеял себя за то, что в прошлый раз подумал, будто понравился ей; полночи я не мог уснуть, ворочался с боку на бок, вспоминал ее очарование, проклинал ее жестокосердие. Какой ничтожной она мне казалась, а вместе с нею и все женщины на свете! Мужчина может быть ангелом, Аполлоном, но ежели на нем куртка горчичного цвета, она скроет от женских глаз все его достоинства. Для этой девицы я — пленник, раб, существо презренное и презираемое, предмет насмешек ее соотечественников. Я запомню этот урок: теперь уж ни одна гордячка из неприятельского стана надо мною не посмеется; ни у одной не будет повода вообразить, будто я гляжу на нее с восхищением. Вы даже представить не можете, сколь я был решителен и независим, сколь непроницаемы были латы моей национальной гордости! Я вспомнил все низости, совершенные Британией, поставил весь этот длинный перечень в счет Флоре и только после этого наконец уснул.
На другой день я сидел на своем обычном месте и вдруг почувствовал, что кто-то остановился рядом со мною, — то была она! Я продолжал сидеть — поначалу от растерянности, потом уже с умыслом, а она стояла, слегка склонясь надо мною, словно бы сострадая мне. Она держалась очень скромно, даже робко, говорила вполголоса. Я страдаю в плену? — спросила она. Может быть, у меня есть какие-нибудь жалобы?
— Мадемуазель, — отвечал я, — жаловаться не в моем обычае, я солдат Наполеона.
Она вздохнула.
— Ну уж, наверное, вы горюете о La France,[3] — сказала она и чуть покраснела, французское слово прозвучало в ее устах как-то непривычно и мило.
— Что вам сказать? — отвечал я. — Если бы вас увезли из Шотландии, с которой вы так слиты, что, кажется, будто даже ее ветры и дожди вам к лицу, разве вы бы не горевали? Как можем мы не горевать — сын о матери, мужчина о своей отчизне, ведь это у нас в крови.
— У вас есть мать? — спросила она.
— В ином мире, мадемуазель, — отвечал я. — И она и мой отец перешли в мир иной тою же дорогой, что и многие честные и отважные люди: они последовали за своей королевой на эшафот. Так что, как видите, хоть я и узник, обо мне не стоит слишком сожалеть, — продолжал я, — никто меня не ждет, я один в целом свете. Куда хуже, например, вон тому бедняге в суконной фуражке. Он спит рядом со мной, и я слышу, как он тихонько плачет по ночам. У него чувствительная душа, он исполнен чувств нежных и деликатных; по ночам во тьме, а иногда и среди дня, если ему удается отвести меня в сторонку, он изливает мне свою тоску о матери и возлюбленной. А знаете, отчего он выбрал меня в наперсники?