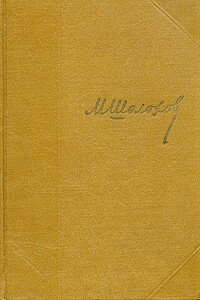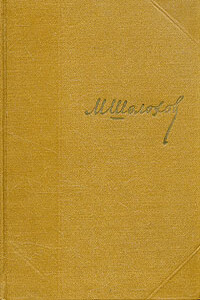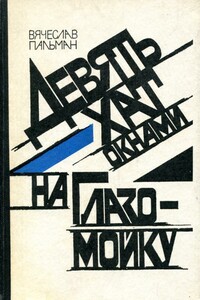— Не время об этом гутарить!
— Нет, время! — Мишка нахмурился, упрямая складка легла у него промеж бровей. — Свататься не время, а гутарить об этом можно. И мне другую времю для этого не выбирать. Нынче я тут, а завтра меня, может, за Донец пошлют. Поэтому я вам делаю упреждению: Евдокею дуриком ни за кого не отдавайте, а то вам плохо будет. Уж ежли из моей части прийдет письмо, что я убитый, — тогда просватывайте, а зараз нельзя, потому что промеж нас с ней — любовь. Гостинцу я ей не привез, негде его взять, гостинца-то, а ежели вам что из буржуйского, купецкого имения надо, — говорите: зараз пойду и приволоку.
— Упаси бог! Сроду чужим не пользовались!
— Ну, это как хотите. Поклон от меня низкий передайте Евдокеи Пантелевне, ежели вы вперед меня ее увидите, а затем прощевайте и, пожалуйста, тетенька, не забудьте моих слов.
Ильинична, не отвечая, пошла в хату, а Мишка сел на коня, поехал к хуторскому плацу.
На ночь в хутор сошли с горы красноармейцы. Оживленные голоса их звучали по проулкам. Трое, направлявшиеся с ручным пулеметом в заставу к Дону, опросили Мишку, проверили документы. Против хатенки Семена Чугуна встретил еще четырех. Двое из них везли на фурманке овес, а двое — вместе с чахоточной женёнкой Чугуна — несли ножную машину и мешок с мукой.
Чугуниха узнала Мишку, поздоровалась.
— Чего это ты тянешь, тетка? — поинтересовался Мишка.
— А это мы женщину бедняцкого класса на хозяйство ставим: несем ей буржуйскую машину и муку, — бойкой скороговоркой ответил один из красноармейцев.
Мишка зажег подряд семь домов, принадлежавших отступившим за Донец купцам Мохову и Атепину-Цаце, попу Виссариону, благочинному отцу Панкратию и еще трем зажиточным казакам, и только тогда тронулся из хутора.
Выехал на бугор, повернул коня. Внизу, в Татарском, на фоне аспидно-черного неба искристым лисьим хвостом распушилось рыжее пламя. Огонь то вздымался так, что отблески его мережили текучую быстринку Дона, то ниспадал, клонился на запад, с жадностью пожирая строения.
С востока набегал легкий степной ветерок. Он раздувал пламя и далеко нес с пожарища черные, углисто сверкающие хлопья…