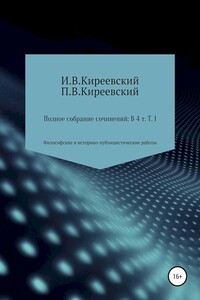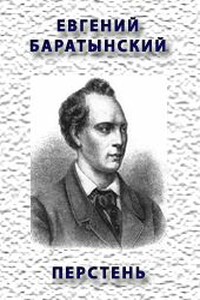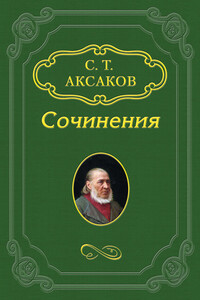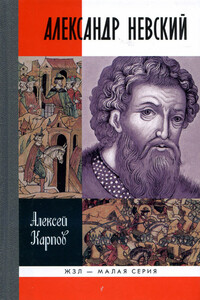Мы часто, — говорит Киреевский, — считаем людьми нравственными тех, которые не нарушают приличий, хотя бы в прочем жизнь их была самая ничтожная, хотя бы душа их была лишена всякого стремления к добру и красоте. Если вам случалось встречать человека, согретого чувствами возвышенными, но одаренного притом сильными страстями, то вспомните и сочтите, сколько нашлось людей, которые поняли в нем красоту души, и сколько таких, которые заметили одни заблуждения. Странно, но правда, что для хорошей репутации у нас лучше совсем не действовать, чем иногда ошибаться, между тем как, в самом деле, скажите, есть ли на свете что-нибудь безнравственнее равнодушия.
Вот замечательная мысль Киреевского об отношениях между жизнью и искусством:
Но когда является поэт оригинальный, открывающий новую область в мире прекрасного и прибавляющий, таким образом, новый элемент к поэтической жизни своего народа, — тогда обязанность критики изменяется. Вопрос о достоинстве художественном становится уже вопросом второстепенным; даже вопрос о таланте является не главным; но мысль, одушевлявшая поэта, получает интерес самобытный, философический; и лицо его становится идеею, и его создания становятся прозрачными, так что мы не столько смотрим на них, сколько сквозь них, как сквозь открытое окно стараемся рассмотреть самую внутренность нового храма и в нем божество, его освящающее.
Оттого, входя в мастерскую живописца обыкновенного, мы можем удивляться его искусству, но пред картиною художника творческого забываем искусство, стараясь понять мысль, в ней выраженную, постигнуть чувство, зародившее эту мысль, и прожить в воображении то состояние души, при котором она исполнена. Впрочем, и это последнее сочувствие с художником свойственно одним художникам же, но вообще люди сочувствуют с ним только в том, что в нем чисто человеческого: с его любовью, с его тоской, с его восторгами, с его мечтою-утешительницею, одним словом, с тем, что происходит внутри его сердца, не заботясь о событиях его мастерской.
Таким образом, на некоторой степени совершенства искусство само себя уничтожает, обращаясь в мысль, превращаясь в душу.
Вот суждение Киреевского об особенностях поэзии Языкова:
Если мы вникнем в то впечатление, которое производит на нас его поэзия, то увидим, что она действует на душу как вино, им воспеваемое, как какое-то волшебное вино, от которого жизнь двоится в глазах наших: одна жизнь является нам тесною, мелкою, вседневною; другая — праздничною, поэтическою, просторною. Первая угнетает душу, вторая освобождает ее, возвышает и наполняет восторгом. И между сими двумя существованиями лежит явная, бездонная пропасть; но через эту пропасть судьба бросила несколько живых мостов, по которым душа переходит из одной жизни в другую: это любовь, это слава, дружба, вино, мысль об отечестве, мысль о поэзии и, наконец, те минуты безотчетного, разгульного веселья, когда собственные звуки сердца заглушают ему голос окружающего мира, — звуки, которыми сердце обязано собственной молодости более, чем случайному предмету, их возбудившему.
Я, может быть, утомил читателя выписками, но мне хотелось дать возможно полное понятие о светлой стороне литературной деятельности Киреевского. В этой светлой стороне отразилась способность сочувствовать всем человеческий ощущениям и понимать чувством все человеческие слабости и страдания. Киреевский родился художником и, неизвестно почему, вообразил себя мыслителем. Он впечатлителен, восприимчив, отзывчив, способен подчиняться чужому влиянию, увлекаться чужими идеями; у него нет умственной самобытности, он постоянно отражает в себе идеи и симпатии той среды, в которой он живет и которую любит. Бывши юношею, он жил тем, что было втолковано ему в детстве; поехавши за границу, он увлекся «первоклассными умами» Европы и начал стремиться к западному просвещению, которое было известно ему как-то понаслышке да по философским трактатам Гегеля и Шеллинга. Воротившись на родину и заслышав гул московских колоколов, он крепко прирос к той родимой почве, о которой убивается журнал «Время»