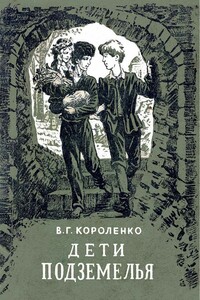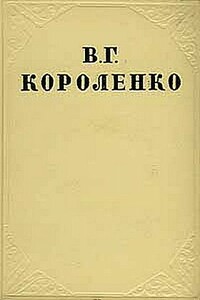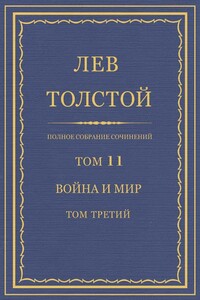После восстания пошла тяжелая полоса «обрусения», с доносами, арестами, судами уже не над повстанцами, а над «подозрительными», с конфискациями имений. Сыновья Рыхлинского были высланы в Сибирь. Старики ездили в Киев и видели сыновей в последний раз перед отправлением.
Однажды, в именины старого Рыхлинского, его родственники и знакомые устроили торжество, во время которого хор из пансионеров спел под руководством одного из учителей сочиненную на этот случай кантату. Она кончалась словами:
Ведь есть на небе великий бог:
Сынов увидишь у своих ног…
Старик, глубоко растроганный, плакал, но в это время юморист дядя Петр печально покачал головой и ответил горькой шуткой:
— Да у него и ног-то нет.
Короткая фраза упала среди наступившей тишины с какой-то грубою резкостью. Все были возмущены цинизмом Петра, но — он оказался пророком. Вскоре пришло печальное известие: старший из сыновей умер от раны на одном из этапов, а еще через некоторое время кто-то из соперников сделал донос на самый пансион. Началось расследование, и лучшее из училищ, какое я знал в своей жизни, было закрыто. Старики ликвидировали любимое дело и уехали из города.
Вскоре пришлось уехать и нам.
В городе Дубно нашей губернии был убит уездный судья. Это был поляк, принявший православие, человек от природы желчный и злой. Положение меж двух огней озлобило его еще больше, и его имя приобрело мрачную известность. Однажды, когда он возвращался из суда, поляк Бобрик окликнул его сзади. Судья оглянулся, и в то же мгновение Бобрик свалил его ударом палки с наконечником в виде топорика.
Этот случай произвел у нас впечатление гораздо более сильное, чем покушение на царя. То была какая-то далекая отвлеченность в столице, а здесь говорили и о жертве, и об убийце. Бобрик представлялся или героем, или сумасшедшим. На суде он держал себя шутливо, перед казнью попросил позволения выкурить папиросу.
Чтобы несколько успокоить вызванное этим убийством волнение, высшая администрация решила послать на место убитого судьи человека, пользующегося общим уважением и умеренного. Выбор пал на моего отца.
Он наскоро собрался и уехал. На каникулы мы ездили к нему, но затем вернулись опять в Житомир, так как в Дубно не было гимназии. Ввиду этого отец через несколько месяцев попросил перевода и был назначен в уездный город Ровно. Там он заболел, и мать с сестрой уехали к нему.
Мы остались и прожили около полугода под надзором бабушки и теток. Новой «власти» мы как-то сразу не подчинились, и жизнь пошла кое-как. У меня были превосходные способности, и, совсем перестав учиться, я схватывал предметы на лету, в классе, на переменах и получал отличные отметки. Свободное время мы с братьями отдавали бродяжничеству: уходя веселой компанией за реку, бродили по горам, покрытым орешником, купались под мельничными шлюзами, делали набеги на баштаны и огороды, а домой возвращались поздней ночью.
Вследствие этого, выдержав по всем предметам, я решительно срезался на математике и остался на второй год в том же классе. В это время был решен наш переезд к отцу, в Ровно.
В середине июня огромная семейная колымага, носившая у нас название «коч кареты», стояла перед нашим крыльцом, нагруженная доверху. Привели почтовых лошадей. Ямщик в низкой шляпе с медным орлом и с бляхой на левой руке взгромоздился на козлы… Замелькали знакомые улицы, лавочки, костелы, остов «старой фигуры», когда-то разбитой громом, дома Коляновских. Знакомый мир, который, сам не знаю почему, стал мне постылым и ненавистным. Душа рвалась навстречу новому, неизведанному… Въехав на косогор у русского кладбища, ямщик остановился и отвязал колокольчик. Я с страстным нетерпением ждал, чтобы он поскорее опять влез на свое место. Мне казалось, что оттуда, сзади, придет еще что-то и остановит нас. И действительно, кто-то бежал по старой Вильской улице и махал белым свертком. Сердце у меня замерло, но это оказалась только забытая картонка. Колымага тряхнулась и поплыла вниз с косогора…