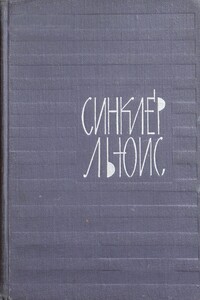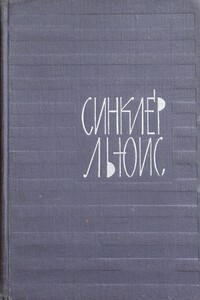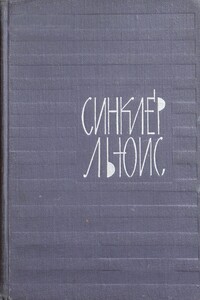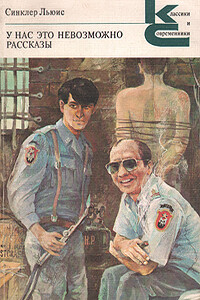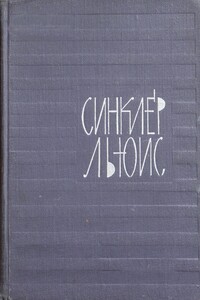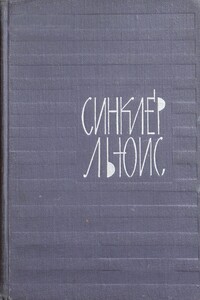— Господи, как я счастлив! — вздохнул Элмер. — Я приехал домой!
Когда дворецкий вышел, Элмер лениво подошел к окну и снова ахнул от восхищения. Он не заметил по дороге, что они поднялись так высоко. За холмистыми пастбищами, за перелесками горела в лучах послеполуденного солнца Шенандоа.
— Ше-нан-до-а! — протянул он.
Он вдруг опустился на колени у окна, и, впервые с тех пор, как расстался с Джимом Леффертсом, футболом и веселой, беспутной жизнью, душа его освободилась от грязной накипи, покрывшей ее, — ораторского тщеславия, необузданной чувственности, мертвых изречений скучных пророков, мертвых догм, ханжества. Золотая извилистая река манила его к себе, его манило к себе высокое небо, и он простер руки и стал молиться об избавлении от молитв.
«Я нашел ее. Шэрон. Хватит, не стану больше вариться в этом евангелическом котле. Заманивать идиотов божественной чепухой! Нет, довольно! Буду жить честно. Схвачу ее в охапку и унесу и буду бороться как настоящий мужчина. Бизнес — вот это дело! Добьюсь успеха. Стану большим человеком. И буду смеяться, а не хныкать, пожимая руки церковным крысам! Да, решено!..»
Этим и ограничились его смелые планы.
Туман компромиссов скрыл от него прекрасную реку… «Как он сможет отказаться от евангелической комедии, если хочет добиться Шэрон? А ведь это единственная цель его жизни. Шэрон любит свои собрания, она ни за что не бросит их, — он должен подчиниться. И потом — так приятно упиваться собственным красноречием…
Да! И еще можно многое сказать в пользу евангелистов. Мы ведь и в самом деле творим добро. Возможно, мы чересчур играем на их чувствах, но людям только полезно встряхнуться! Безусловно!»
И Элмер, облачившись в белый свитер, твердым и размеренным шагом спустился к Шэрон.
Она ждала его в холле, такая легкая и молодая, в своей матросской блузке и красном шотландском берете.
— Не будем говорить о серьезном. Я не сестра Фолконер — сегодня я Шэрон. И, подумать только, что мне случалось выступать перед пятитысячной аудиторией! Пошли! Бежим на тот холм — кто скорей?..
Широкий холл, по традиции увешанный гравюрами по меди и индейским оружием, тянулся во всю ширину дома, от парадного крыльца и до задних дверей, выходящих в сад, все еще ярко пестреющий пурпурными астрами и золотистыми циниями.
Шэрон помчалась через холл, по саду, мимо каменных солнечных часов, по высокой жесткой траве и вбежала в залитый солнцем фруктовый сад на вершине холма. Нимфа, а не торжественная Юнона[92]! А он, тяжелый, неуклюжий, поспешал за ней, неуклонно настигая, думая не столько о ее легкости и грации, сколько о том, что, бросив курить, он стал явно меньше задыхаться — да, несомненно.
— Умеете бегать, ничего не скажешь! — воскликнула она и, переводя дыхание, остановилась у садовой ограды, обсаженной шпалерными грушами.
— Еще бы! А футболист я какой! Форвард — сила страшная, так-то, мой юный друг!
Он подхватил ее на руки, и она, болтая ногами и отбиваясь, была вынуждена восхищенно признать:
— Вы ужас какой сильный!
Но солнечный октябрьский денек был так покоен и безмятежен, что разрезвившийся Элмер утих, и, чинно взявшись за руки и размахивая ими в такт шагам, они поднялись на холм и так же чинно беседовали (Элмер лез из кожи вон, стараясь не ударить в грязь лицом перед семейством Фолконер, старым родовым поместьем и чернокожими слугами). Беседовали о том, какие беды сулит миру дух критиканства и как талантлив Э. О. Экселл, автор священной, но в то же время зажигательной музыки.
III
Переодеваясь к обеду, иными словами, облачаясь в коричневый костюм и повязывая сногсшибательный новый галстук, Элмер тревожился. Слишком безоблачны были эти несколько часов дружеской близости. Что-нибудь, наверное, да нарушит ее. Шэрон вскользь упоминала о каких-то братьях, заносчивых тетках и кузинах, а дом так велик, что в недрах его коридоров может скрываться целая туча родственников. Неужели ему предстоит встретиться за обедом с враждебно настроенными реликвиями прошлого, которые будут пялить на него глаза и приставать с разговорами и в конце концов сочтут дремучим провинциалом? Он заранее читал пренебрежение в их надменных и выцветших глазах. Он уже ясно представлял себе, как Шэрон, поддавшись их презрительному неодобрению, стряхнет с себя сомнительное очарование его дерзости и жизненной энергии.