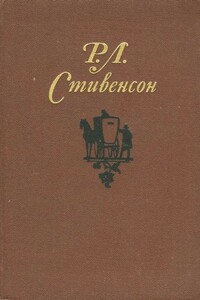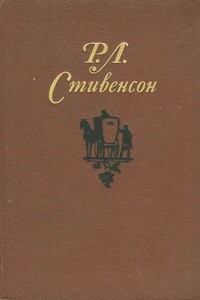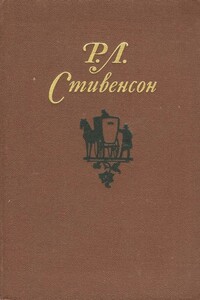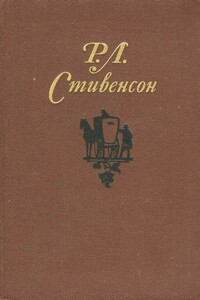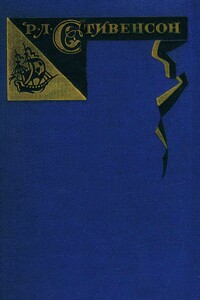— Сэр, — сказал я. — Ваш друг нуждается в очень значительной сумме денег. Надо полагать, что у него большие расходы?
— Надо полагать, что так, — сказал он, как мне показалось, очень сухо, но, возможно, это было вызвано тем, что он прикрывал рот плащом.
— Я лишь слуга этой семьи, — сказал я. — Со мной вы можете быть откровенны. Я думаю, что он, вероятно, не принесет нам добра.
— Почтеннейший, — сказал полковник. — Баллантрэ — джентльмен, наделенный исключительными природными достоинствами, и я им восхищаюсь и почитаю самую землю, по которой он ступает. — А затем он запнулся, как человек, не знающий, что сказать.
— Все это так, — сказал я, — но нам-то от этого будет мало доброго.
— Само собой, у вас на этот счет может быть свое мнение, почтеннейший.
К этому времени мы уже дошли до бухточки, где его ожидала шлюпка.
— Так вот, — сказал он. — Конечно, я перед вами в долгу за всю вашу любезность, мистер, как бишь вас там, и просто на прощание и потому, что вы проявляете в этом деле такую проницательность и заинтересованность, я укажу вам на одно обстоятельство, которое небезынтересно будет знать вашим господам. Мне сдается, что друг мой упустил из виду сообщить им, что из всех изгнанников в Париже он пользуется самым большим пособием из Шотландского фонда,[25] и это тем большее безобразие, сэр, — выкрикнул разгорячившийся полковник, — что для меня у них не нашлось ни одного пенни!
При этом он вызывающе сдвинул шляпу набекрень, как будто я был в ответе за эту, несправедливость; затем снова напустил на себя надменную любезность, пожал мне руку и пошел к шлюпке, неся под мышкой сверток с деньгами и насвистывая чувствительную песню «Shule Aroon».[26]
Тогда-то я в первый раз услышал эту песню; мне еще суждено было услышать и слова и напев, но уже тогда запомнился куплет из нее, который звучал у меня в голове и после того, как контрабандисты зашипели на полковника: «Тише вы, черт вас подери!» — и все заглушил скрип уключин, а я стоял, смотря, как занималась заря над морем и шлюпка приближалась к люггеру, поставившему паруса в ожидании отплытия.
Брешь, пробитая в наших финансах, принесла нам много затруднений и, между прочим, заставила меня отправиться в Эдинбург. Здесь, для того чтобы как-нибудь покрыть прежний заем, я должен был на очень невыгодных условиях переписать векселя и для этого на три недели отлучился из Дэррисдира.
Некому было рассказать мне, что происходило там в мое отсутствие, но по приезде я нашел, что поведение миссис Генри сильно изменилось. Описанные мною беседы с милордом прекратились, к мужу она относилась мягче и подолгу нянчилась с мисс Кэтрин. Вы можете предположить, что перемена эта была приятна мистеру Генри. Ничуть не бывало! Наоборот, каждый знак ее внимания только уязвлял его и служил новым доказательством ее затаенных мечтаний. До тех пор, пока Баллантрэ считался умершим, она гордилась верностью его памяти, теперь, когда стало известно, что он жив, она должна была стыдиться этого, что и вызвало перемену в ее поведении. Мне незачем скрывать правду, и я скажу начистоту, что, может быть, никогда мистер Генри не показывал себя с такой плохой стороны, как в эти дни. На людях он сдерживался, но видно было, что внутри у него все кипит. Со мной, от которого ему не для чего было скрываться, он бывал часто несправедлив и резок и даже по отношению к жене позволял себе иногда колкое замечание: то, когда она задевала его какой-нибудь непрошеной нежностью, то без всякого видимого повода, просто давая выход скрытому и подавленному раздражению. Когда он так забывался (что совсем не было в его привычках), это сразу отражалось на всех нас, а оба они глядели друг на друга с какимто сокрушенным изумлением.
Вредя себе этими вспышками, он еще больше вредил себе молчаливостью, которую с одинаковым основанием можно было приписать как великодушию, так и гордости. Контрабандисты приводили все новых гонцов от Баллантрэ, и ни один из них не уходил с пустыми руками. Я не осмеливался спорить с мистером Генри: он давал все требуемое в припадке благородной ярости. Может быть, сознавая за собой природную склонность к бережливости, он находил особое наслаждение в безоглядной щедрости, с которой выполнял требования своего брата. Положение было настолько ложное, что, пожалуй, заставило бы действовать так и более скромного человека. Но хозяйство наше стонало (если можно так выразиться) под этим непосильным бременем, мы без конца урезывали наши текущие расходы, конюшни наши пустели, в них оставались только четыре верховые лошади; слуги были почти все рассчитаны, что вызвало сильное недовольство во всей округе и только подогревало старую неприязнь к мистеру Генри. Наконец была отменена и традиционная ежегодная поездка в Эдинбург.