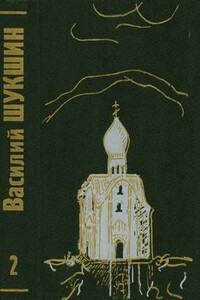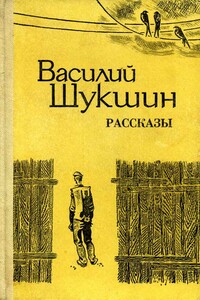После отставки своей Алексей перекочевал за границу со всеми накраденными богатствами своими, под бочок к своей Балетте. Накупил дворцов в Париже и других приятных городах и сорил золото, украденное у русского народа, на девок, пьянство и азартные игры, покуда не помер от «случайной простуды».
Прочитал я это, и вспомнился мне наш пастух, дядя Емельян. Утром, еще до солнышка, издалека слышался его добрый, чуть насмешливый сильный голос:
– Бабы, коров! Бабы, коров!
Как начинал слышаться этот голос весной, в мае, так радостно билось сердце: скоро лето!
Потом, позже, он не пастушил уже, стар стал, а любил ходить удить на Катунь. Я тоже любил удить, и мы, бывало, стояли рядом в затоне, молчали, наблюдая каждый за своими лесками. У нас не принято удить с поплавками, а надо следить за леской: как зачиркает она по воде, задрожит – подсекай, есть. А лески вили из конского волоса: надо было изловчиться надергать белых волос из конского хвоста; кони не давались, иной меринок норовит задом накинуть – лягнуть, нужна сноровка. Я добывал дяде Емельяну волос, а он учил меня сучить лесу на колене.
Я любил удить с дядей Емельяном: он не баловался в это дело, а серьезно, умно рыбачил. Хуже нет, когда взрослые начинают баловаться, гоготать, шуметь… Придут с неводом целой оравой, наорут, нашумят, в три-четыре тони огребут ведро рыбы, и – довольные – в деревню: там будут жарить и выпивать.
Мы уходили подальше куда-нибудь и там стояли босиком в воде. До того достоишь, что ноги заломит. Тогда дядя Емельян говорил:
– Перекур, Васька.
Я набирал сушняка, разводили огонек на берегу, грели ноги. Дядя Емельян курил и что-нибудь рассказывал. Тогда-то я и узнал, что он был моряком и воевал с японцами. И был даже в плену у японцев. Что он воевал, меня это не удивляло – у нас все почти старики где-нибудь когда-нибудь воевали, но что он – моряк, что был в плену у японцев – это интересно. Но как раз об этом он не любил почему-то рассказывать. Я даже не знаю, на каком корабле он служил: может, он говорил, да я забыл, а может, и не говорил. С расспросами я стеснялся лезть, это у меня всю жизнь так, слушал, что он сказывал, и все. Он не охотник был много говорить: так, вспомнит что-нибудь, расскажет, и опять молчим. Я его как сейчас вижу: рослый, худой, широкий в кости, скулы широкие, борода пегая, спутанная… Стар он был, а все казался могучим. Один раз он смотрел-смотрел на свою руку, которой держал удилище, усмехнулся, показал мне на нее, на свою руку, глазами:
– Трясется. Дохлая… Думал, мне износу не будет. Ох, и здоровый же был! Парнем гонял плоты… От Манжурска подряжались и гнали до Верх-Кайтана, а там городские на подводах увозили к себе. А в Нуйме у меня была знакомая краля… умная женщина, вдовуха, но лучше другой девки. А нуйминские – поперек горла, што я к ей… ну, проведаю ее. Мужики в основном дулись. Но я на их плевал с колокольни, на дураков, ходил, и все. Как плыву мимо, плот причаливаю, привязываю его канатами – и, значит, к ей. Она меня привечала. Я бы и женился на ей, но вскорости на службу забрили. А мужики чего злятся? Што вот чужой какой-то повадился… Она всем глянулась, но все – женатые, а вот все одно – не ходи. Но не на того попали. Раз как-то причалились, напарник мой к бабке одной проворной, та самогонку добрую варганила, а я – к зазнобе своей. Подхожу к дому-то, а там меня поджидают: человек восемь стоят. Ну, думаю, столько-то я раскидаю. Иду прямо на их… Двое мне навстречу: «Куда?» Я их сгреб обоих за грудки, как двинул в тех, которые сбоку-то поджидали, штук пять свалил. Они на меня кучей, у меня сердце разыгралось, я пошел их шшолкать: как достану какого, так через дорогу летит, аж глядеть радостно. Тут к им ишо подбежали, а сделать ничо не могут… Схватились за колья. Я тоже успел, жердину из прясла выдернул и воюю. Сражение целое было. У меня жердь-то длинная – они не могут меня достать. Камнями начали… Бессовестные. Они, нуйминские, сроду бессовестные. Старики, правда, унимать их стали – с камнями-то: кто же так делат! И так уж человек двенадцать на одного, да ишо с камнями. Сражались мы так до-олго, я спотел… Тут какая-то бабенка со стороны крикнула: плот-то!.. Они, собаки, канаты перерубили – плот унесло. А внизу – пороги, его там растрепет по бревнышку, весь труд даром. Я бросил жердь – и догонять плот. От Нуймы до Быстрого Исхода без передыху гнал – верст пятнадцать. Где по дороге, а где по камням прямо – боюсь пропустить-то плот-то. Обгонишь и знать не будешь, так я уж берегом старался. От бежал!.. Никогда в жизни больше так не бегал. Как жеребец. Догнал. Подплыл, забрался на плот – слава те господи! А тут вскорости и пороги; там двоим-то – еле-еле управиться, а я один: от одного весла к другому, как тигра бегаю, рубаху скинул… Управился. Но бежал я тада!.. – Дядя Емельян усмехнулся и качнул головой: – Никто не верил, што я его у Быстрого Исхода догнал: не суметь, мол. Захочешь – сумеешь.