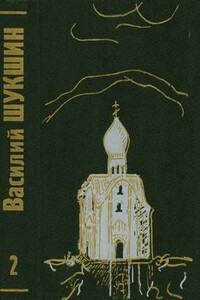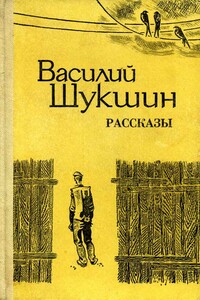– Пошутил! – воскликнул ювелир. И хотел даже посмеяться, но у него вышло коротко и ненатурально. – Я вообще шутник большой. Бывает, соберемся у нас в мастерской – чего я только ни выделываю! Я в ювелирной мастерской работаю. Я вот вижу у вас колечко… – Ювелир хотел встать и поближе посмотреть кольцо на руке одной из женщин.
– Сидеть, – сказал ему старшина.
– Господи, чего тут такого? – негромко сказал ювелир. – Просто смотрю: неважно сделано…
– Вы признаете факт шантажа и запугивания с вашей стороны?
– Только не шантаж! – вскочил ювелир и даже протянул руку к судье. – Только не… это… не надо разных слов. Шутка – да, юмореска…
– Вы угрожали Трухалеву Илье Георгиевичу арестом?
– Ну, шутка, шутка!.. – Ювелир прижал руку к сердцу: – Ну, Трухалев шуток не понимает, но вы-то!..
– Сядьте, – опять сказал ему старшина…
Ювелир сел… И вдруг ему стало противно, что он трусит, юлит и суетится. Он как-то сразу устал и успокоился.
– Угрожал, – сказал он спокойно.
– Вы сознаете, что это… неумно по крайней мере? Что за мысль вам пришла – пойти арестовывать? Почему?
– Не знаю, – сказал ювелир. – Мне не нравится этот Трухалев. Вообще, чего тут много говорить? Давайте мне пятнадцать суток… и разойдемся, как в море корабли. – Ювелир смело посмотрел на старшину и даже подмигнул ему. Что на него такое нашло, непонятно. – Чего тут долго-то?
Женщина-судья серьезно смотрела на него.
– Только не надо, – сказал ювелир.
– Что «не надо»?
– Не надо меня пугать строгим взором. Прошу дать мне пятнадцать суток. Я все понимаю, всю карикуляцию.
– Почему вы решили, что именно пятнадцать?
– Вы же всем сегодня по пятнадцать даете.
Женщины тут же, не сходя с места, негромко посовещались, и судья объявила:
– Пятнадцать суток.
– О’кей! – сказал ювелир. И вышел в коридор к другим.
– Сколько вломили? – спросили.
– Пятнадцать, – сказал ювелир.
В эту минуту ему было все равно, даже хорошо, что пятнадцать, а то перед другими было бы неудобно. Он сел в пестрый рядок тех, кто уже получил свои «сутки».
– В понедельник к ним лучше не попадать, – опять сказал мрачный человек. Он тоже получил пятнадцать суток.
Сам Иван Максимович несколько нескромно называет себя – сантехник, а вообще он дежурит в бойлерной. Через двое суток на третьи выпадает дежурить в ночь. И как раз ночные-то смены он очень любит.
Домина, под которым бойлерная, огромный, сколько там людей разных!.. И вот – ночь: магазины закрыты, а кто-то, допустим, поругался с женой, кто-то затосковал так, что хоть криком кричи… Да мало ли! Куда человеку деваться с растревоженной душой? Ведь она же болит, душа-то. Зубы заболят ночью, и то мы сломя голову бежим в эти, в круглосуточные-то, где их рвут. А с душой куда? Где тебя послушают, посочувствуют? К дяде Ване, в бойлерную. Там у него уютно, тепло… Трубы, много труб, в трубах тихонько поет и потрескивает, как в печке. Огонек тусклый под потолком… Возле стены, в нише, удобный лежак, старенький тулуп раскинут, подушка.
В эту ночь Максимыч и не пробовал ложиться. Он сидел у самодельного крашеного столика и задумчиво постукивал пальцами в столешницу. Лицо у него тоже задумчивое… Лицо у него – доброе, смышленое, немного усталое, но бесконечно доброе, в глазах, в морщинках вокруг глаз – столько терпения, покоя, столько мудрости житейской, что – куда же и спускаться с больной-то душой? К нему и спускались.
Первым пришел крупный мужчина Пилипенко. Он был седовлас, сыт, колыхал запахом одеколона и дорогих сигарет. Но был он мрачен, встревожен… Ему было тяжело, грустно.
– Здорово, Максимыч, – сказал Пилипенко и сел на свободный хилый стул.
– Здорово, Николай Семеныч, – откликнулся Максимыч.
Некоторое время молчали.
– Душа? – спросил Максимыч.
Пилипенко очнулся от тяжких дум, вздохнул.
– Тут, брат… и душа, и тело, все вместе, – сказал он. – Есть что-нибудь?
– А как же. – Максимыч встал и пошел в угол куда-то. – Коньячку? – спросил оттуда. – Или водки?
– Давай коньячку, – сказал Пилипенко. И огляделся кругом. – Хорошо тут у тебя… В напарники возьмешь?
Максимыч тихо посмеялся.
– Чего смеешься?
– Да насчет напарника-то… Тут, Семеныч, оклад не тот.