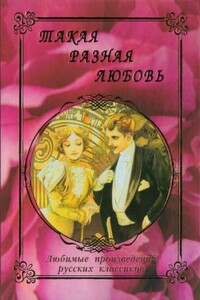Лед редел, между льдинами являлись трещины, точно морщины на скучном, бескровном лице. Играя на нем, они придавали реке то одно, то другое выражение, всегда одинаково мудрое, всегда холодное, но — то печальное, то насмешливое, то искаженное болью. Сырая масса облаков смотрела на игру льда неподвижно, бесстрастно, шорох льдин о песок звучал, как чей-то робкий шёпот, и наводил уныние.
— Дай мне, брат, хлебца! — услыхал я подавленный шёпот Исая.
И в то же время Мамаев густо крякнул, а земский громко и сердито сказал:
— Кирилка! дай сюда хлеб…
Мужичонка сорвал одной рукой шапку с головы, другую руку сунул за пазуху и, положив хлеб на шапку, протянул его к земскому, изогнувшись чуть не в дугу. Взяв хлеб в руку, земский брезгливо оглянул его и с кислой улыбкой под усами сказал нам:
— Господа! Все мы, я вижу, являемся претендентами на обладание этим куском, и все мы имеем на него одинаковое право, — право людей, которые хотят есть… Что же? Разделим пополам… сию скудную трапезу… Чёрт возьми! вот смешное положение, но, поверите ли, торопясь застать дорогу, я так спешил… Извольте…
Отломив себе, он подал кусок хлеба Мамаеву. Купец прищурил глаз, склонив голову набок, и, измерив хлеб, откромсал свою долю. Остатки взял Исай и разделил со мною. Мы снова сели в ряд и стали дружно, молча жевать этот хлеб, хотя он был похож на глину, имел запах потной овчины и квашеной капусты и… неизъяснимый вкус…
Я ел и наблюдал, как по реке плывут грязные лохмотья ее зимних одежд.
— Вот, — говорил земский, с упреком глядя на кусок в своей руке, извольте видеть — это хлеб! В то время, как за границей крестьянин имеет вино, сыр, пшеничный хлеб, — наш мужик ест… эту гадость. Мякина в нем, кислота какая-то… и этим питаются накануне двадцатого столетия!.. А почему?
Так как вопрос был обращен к Мамаеву, купец тяжело вздохнул и скромно ответил:
— Пишша не тово… не располагает…
— А по-че-му-с?
— Истощала почва земли… так сказать…
— Хм! Полноте! Эти разговоры об истощении земли — просто выдумка земских статистиков…
Кирилка вздохнул и поправил шапку на голове.
— Ты! Скажи — земля родит? — обратился к нему земский.
— Да ить… она всяко… когда ей в мочь, то она — сколько угодно!
— Не виляй! Говори прямо — родит?
— То есть… стало быть, ежели…
— Вре-ешь!
— Ежели руки к ней, то она — ничего…
— Ага-а! Вы слышите — руки! Вот потому-то она и не родит, что рук к ней некому приложить… Что мы видим? Пьянство и распущенность… леность. Руководителя нет. Недород — на сцену выступает земство: на, сей, батюшка, на, ешь, батюшка… Не-ет-с, это непорядок! Почему до шестьдесят первого года родила? Потому что — если недород — сейчас его, голубчика… мужика то есть — пожалуйте-ка сюда! Вы как пахали? Вы как сеяли? Потом дадут ему сей! И — родит, о, поверьте! А теперь, живя за пазухой у земства, он спрятал все свои способности… потому что не знает, как употребить их с большей пользой для себя, а указать некому…
— Это — точно, помещик мог заставить всё, что угодно, — уверенно сказал Мамаев. — Он что хотел из мужика делал…
— Музыкантов, живописцев, танцоров, актеров… — с жаром подхватил земский. — Всё, что угодно!
— Истинно-с!.. Я вот тоже помню, когда еще мальчишкой был… так у нас… у графа… в дворне был один… подражатель, так сказать…
— Н-да?
— Всему выучился подражать! Не токмо звукам, которые от человека и скота… но даже деревянным и иным… изображал, как доску пилят или стекло бьется. Надует щеки и — хорошо выходило! А то, бывало, граф скажет: «Федька! лай, как Злобная лает! Федька! лай, как Перехват!..» И лает. Вот до чего достиг! Теперь бы за этакое искусство мно-ого денег можно взять!
— Лодки едут! — возгласил Исай.
— А! Наконец!
— Вот и дождались… — с улыбкой сказал мне Мамаев.
— Да…
— Уж это всегда так: ждешь, ждешь и… дождешься! Всему есть свой конец…
— Ведь это утешительно, — не правда ли?
— Еще бы-с!
— Ежели бы не это — многие совсем не могли бы жизнь терпеть, — сказал Исай.
У того берега реки среди льда копошились две длинные темные точки.
— Лезут, — сказал Кирилка, посмотрев на них.
Земский начальник искоса взглянул на него и спросил: