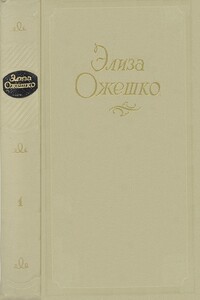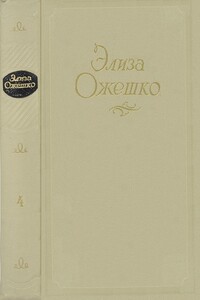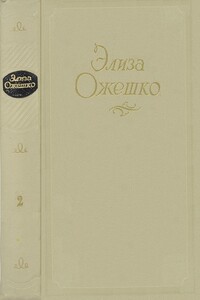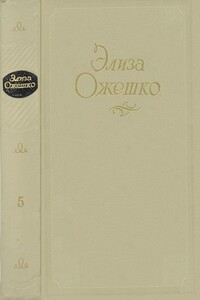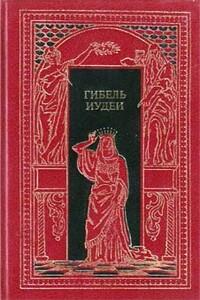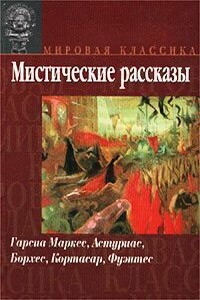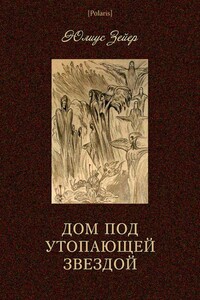Пани Эмилия приложила руку ко лбу: должно быть, в эту минуту у нее внезапно разболелась голова; однако же, она с обычной своей утонченной любезностью ответила гостю:
— О да! Юстина приходится родственницей моему мужу, она дочь его двоюродной сестры. Отец ее, пан Ожельский, в силу несчастливого стечения обстоятельств лишился всего состояния, а вслед затем и овдовел. С тех пор и он и его дочь живут у нас. Юстина приехала к нам четырнадцатилетней девочкой, а в таком возрасте уже выказываются привычки и наклонности, от которых трудно отучить… Впрочем, она добра, очень добра, только оригинальна, настолько оригинальна, что я, право, не понимаю, откуда у нее это взялось… Всегда она поступает не так, как другие.
Приезжий, блеснув стеклами пенсне, задумчиво заметил:
— Она очень хороша собой.
— Ого! — воскликнул Кирло, — успел-таки разглядеть. А ведь только раз, и то среди дороги видел эту конфетку.
— У Юстины фигура хороша, — кисло, улыбаясь, проговорила женщина с подвязанной щекой, — я всегда завидую ее фигуре.
— Вы находите? — медленно процедил сквозь зубы пан Ружиц.
Пани Эмилия, видимо, почувствовав совершенную ее подругой неловкость, поспешила ее замять:
— Прости, Тереса, я еще не представила тебе нового нашего соседа. Когда он посетил нас в первый раз, ты хворала, не помню уж, мигренью или флюсом… Пан Теофиль Ружиц; панна Тереса Плинская, моя подруга и бывшая наставница моей дочери в ее детские годы. Если не ошибаюсь, я лишь второй раз имею удовольствие видеть вас в нашем доме?
— Да, сударыня, — учтиво поклонился гость, — я могу поздравить себя с тем, что в этой пустыне нашел такой дом, как ваш. Я очень признателен за это пану Кирло.
— Пан Кирло во всех обстоятельствах лучший наш друг и сосед.
— О я всегда был и остаюсь лучшим из людей, только — увы! — непризнанным.
— По крайней мере, в этом доме все обитатели его признают ваши достоинства.
Кирло, любезно поклонившись, поблагодарил, но все-таки сказал:
— К прискорбию моему, не все.
— Как не все? Но кто же?..
— Панна Марта, например, совсем их не признает, — с комической грустью пожаловался Кирло.
— О, Марта… Она так, бедняжка, озлоблена, вспыльчива.
— Панна Юстина…
— О, Юстина! Она так оригинальна…
— Супруг ваш…
— Мой супруг… Он нелюдим… так всегда занят… только и думает о своем хозяйстве и делах…
Она привстала и обратилась к Тересе Плинской, которая словно застыла, устремив восхищенный взгляд на блиставшее в тени пенсне пана Ружица.
— Пожалуйста, Тереса, дай мне немножко воды и брому: я чувствую, у меня начинается головокружение.
Тереса бросилась к туалету и в одно мгновение подала подруге все, что та просила. Пани Эмилия с присущей ей грацией взяла в одну руку хрустальный стакан, в другую — порошок, заключенный в круглую облатку, и, обратясь к новому соседу, сказала, как бы оправдываясь:
— Globus histericus… ужасно меня мучает… в особенности, когда что-нибудь встревожит меня… или огорчит…
Тут она проглотила порошок. Лекарство она глотала с тем же пленительным изяществом, с каким искусная танцовщица принимает кокетливую позу. И все же видно было, что она действительно страдает; рукой она сжимала горло и грудь, которую теснило нестерпимое удушье.
— Не облегчит ли ваше состояние свежий воздух? — спросил с состраданием Ружиц. — Если прикажете, я открою окно.
— О, нет, нет! — испуганно возразила страдалица. — Я так боюсь ветра, сквозняка, солнца… От ветра у меня кружится голова, от сквозняка делается невралгия, от солнца — мигрень… Будь добра, Тереса, подай мне ароматический уксус.
Кирло, склонившись над ней, нежно шептал:
— Ну, что? Не лучше вам хоть немножко?.. Все душит, не проходит?..
Тереса, подавая уксус, также склонилась над подругой:
— Начинается мигрень? Неужели? Боже мой! У меня тоже как будто заболела голова…
Пани Эмилия, растирая виски уксусом, потихоньку шептала:
— Милая, этой Марты все еще нет из костела… Я беспокоюсь об обеде… Поди, узнай, накрыли ли на стол. Я не знаю даже, варят ли мне бульон… Кажется, я ничего больше есть не смогу… Ах, эта Марта…
С живостью и грацией шестнадцатилетней девушки Тереса бросилась, было исполнять приказание, как двери отворились, и в кабинет вошел мужчина, высокий, плечистый, седоватый, с длинными усами, загорелым лицом, со лбом в морщинах и большими карими глазами, в которые на первый взгляд нельзя было ничего прочесть, кроме забот и унылой задумчивости.