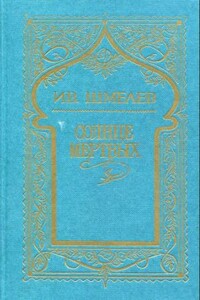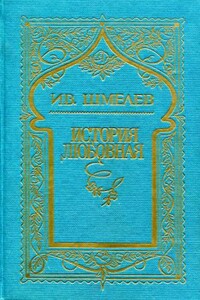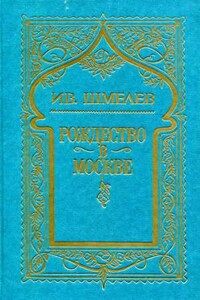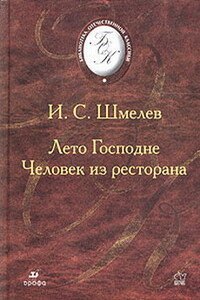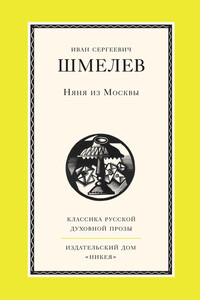И тут увидал я солнечно-розовую Лавру.
Она светилась, веяло от нее покоем. Остановился, присел на столбушке у дороги, смотрел и думал… Сколько пережила она за свои пять веков! Сколько светила русским людям!.. Она светилась… – и, знаете, что почувствовал я тогда, в тихом, что-то мне говорившем, ее сиянии?.. «Сколько еще увидит жизни!..» Поруганная, плененная, светилась она – нетленная. Было во мне такое… чувство ли, дума ли: «Все, что творится, – дурманный сон, призрак, ненастоящее… а вот это – живая сущность, творческая народная идея, завет веков… это – вне времени, нетленное… можно разрушить эти сияющие стены, испепелить, взорвать, и ее это не коснется…» Высокая розовая колокольня, «свеча пасхальная», с золотой чашей, крестом увенчанной… синие и золотые купола… – не грустью отозвалось во мне, а светило.
Впервые тогда за все мутные и давящие восемь лет почувствовал я веру, что – естьзащита, необоримая. Инстинктом, что ли, почувствовал, в чем-опора. Помню, подумал тут же: «Вот почему и ютились здесь, искали душе покоя, защитыиопоры».
VIII
У меня был ордер на комнату в бывшей монастырской гостинице у Лавры. И вот, выйдя на лаврскую площадь, вижу: ворота Лавры затворены, сидит красноармеец в своем шлыке, проходят в дверцу в железных вратах военные, и так, с портфелями. Там теперь, говорят, казармы и «антирелигиозный музей». Неподалеку от святых ворот толпится кучка, мужики с кнутьями, проходят горожане-посадские. И вдруг слышу, за кучкой, мучительно-надрывный выкрик:
– Абсурд!.. Аб-сурд!!. – Потом – невнятное бормотанье, в котором различаю что-то латинское, напомнившее мне из грамматики Шульца и Ходобая уложенные в стишок предлоги: «антэ-апуд-ад-адверзус…»; и снова, с болью, с недоумением:
– Абсурд!.. Аб-сурд!!.
Проталкиваюсь в кучке, спрашиваю какого-то в картузе, что это. Он косится на мой портфель и говорит уклончиво:
– Так-с… выпустили недавно, а он опять на свое место, к Лавре. Да он невредный.
Вскочил в кучку растерзанный парнишка, мерзкий, в одной штанине, скачет передо мной, за сопливую ноздрю рак зацеплен, и на ушах по раку, болтаются вприпрыжку, и он неточно гнусит:
– Товарищ-комиссар, купите… – раков!.. – гадости говорит и передразнивает кого-то. – Абсурд!.. Аб-сурд!!. – прямо бедлам какой-то.
И тут, монастырские башенные часы – четыре покойных перезвона, ровными переливами, – будто у них свое, – и гулко-вдумчиво стали отбивать – отбили – 10. И снова: «Абсурд!.. Аб-сурд!?»
Я подошел взглянуть.
На сухом навозе сидит человек… в хорьковой шубе, босой, гороховые штанишки, лысый, черно-коричневый с загара, запекшийся; отличный череп – отполированный до блеска, старой слоновой кости, лицо аскета, мучительно-напряженное, с приятными, тонкими чертами русского интеллигента-ученого; остренькая, торчком, бородка, и… золотое пенсне, без стекол; шуба на нем без воротника, вся в клочьях, и мех, и верх. Сидит лицом к Лавре, разводит перед собой руками, вскидывает плечами, и с болью, с мучительнейшим надрывом, из последней, кажется, глубины, выбрасывает вскриком: «Абсурд!.. Аб-сурд!!» Я различаю в бормотанье, будто он с кем-то спорит, внутри себя:
– Это же абсолют-но… импоссибиле!.. Ао-солю-тно!.. А6-солют-но!!. Это же… контрадикцию!.. «Антэ-апуд-ад-ад-верзус…» абсолю-тно!.. Абсурд!.. Аб-сурд!..
Бородатые мужики с кнутьями, – видимо, приехавшие на базар крестьяне, – глядят на него угрюмо, вдумчиво, ждут чего-то. Слышу сторожкий шепот:
– Вон чего говорит, «ад отверзу»!.. «Об-со-лю»! Чего говорит-то.
– Стало-ть уж ему известно… Какого-то Абсурду призывает… святого может.
– Давно сидит и сидит – не сходит с своего места… ждет… Ему и открывается, такому…
Спрашивают посадского по виду, кто этот человек. Говорит осмотрительно:
– Так, в неопрятном положении, гражданин. С Вифанской вакадемии, ученый примандацент, в мыслях запутался, юродный вроде… Да он невредный, красноамрейцы и отгонять перестали, и народ жалеет, ничего… хлеоца подают. А, конешно, которые и антересуются, по темноте своей, деревенские… не скажет ли подходящего чего, вот и стоят над ним, дожидают… которые, конешно, без пропаганды-образования.