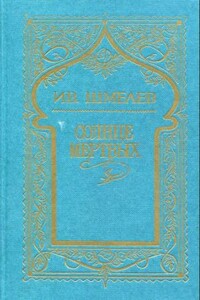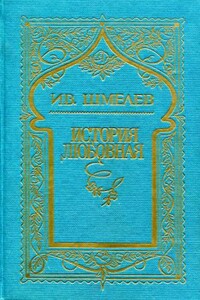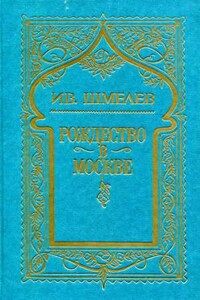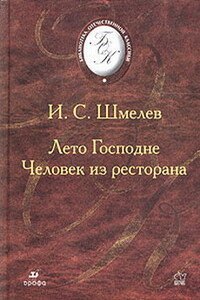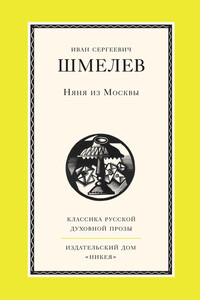Том 2. Въезд в Париж - страница 60
Через год я вернулся в Крым. Я прошел многие заставы, ушел из ада. Крым занимали немцы. Знакомой дорогой, по холмам и балкам, поднялся я к даче художника Пинькова. Всё было как будто то же. Я его не застал: должно быть, он был на ферме. Я прошел на бетонную террасу, откуда, за кустами лавровишни, синело море. Было чудесно тихо. Кусты разрослись, на террасе стало совсем тенисто. «Студия» была заперта на ключ. Я прошел к боковому входу, посмотреть, не спит ли Пиньков в прохладной боковуше, – и в ужасе запнулся… перед крестом! Крест был высокий, белый, снизу обугленный, с присохшей к нему землей. Я подошел ближе и прочитал на прибитой внизу дощечке, славянской вязью:
«Мария Хлебникова, крестьянка, 23 лет, злодейски убита штыком в сердце, в ночь на 20 февраля 1918 года».
Я перекрестился и отошел, с болью и ужасом.
Пиньков рассказал, как было:
– Да, он убил ее, Гришка-Ящер. Убил подло. Он был не просто Гришка, а власть, ихняя власть, комиссаром лесов, дорог и еще чего-то, нашего округа. Он явился ко мне на ферму, хвастался всемогуществом, хлопал меня запанибрата и обещал даже покровительство. Он упивался властью, мог теперь безнаказанно красть, насиловать, убивать. Меня он пока не трогал, от пресыщения. Но тронул Машу – и получил отпор. Она взяла у меня револьвер, и я показал ей, как надо делать. Я просил ее ночевать на даче. Она не захотела. Как случилось – не установлено. Можно предполагать, что ему как-то удалось, когда Маша была в коровнике, под вечер, дети спали, а Настя ушла в город, пробраться в домик и спрятаться. Ночью не подпустили бы собаки, разбудили. Он выждал ночи. Ночь была бурная, страшный ливень. Маша вошла, убралась, – всё было прибрано в комнате, – и стала читать письмо, которое я принес ей[утром. Вы представьте, какой же ужас… письмо ей было от ее Федора, из плена! Надо же так случиться. Он писал ей, что жив-здоров. В самый тот день пришло. Так и нашли, зажато в ее руке. Он хотел ее силой, но она, очевидно, не давалась… и он ее заколол штыком, ржавым штыком. Этот штык все признали, был у него такой. Следствия не было. Машу не осмотрели даже. А Гришка скрылся. После его видали, под Мелитополем. Он жив и кем-то опять у них. Когда хоронили Машу, наши бабы, рыбачихи, садовничихи, все бабы… оскорбленные за сестру свою, за вечную правду… грозой подошли к ревкому, требовали суда… Им пригрозили… пулеме-том! Можете спросить – все скажут. Это не забудется никогда. Меня арестовали – «за бунт»! Мне удалось выскочить в окно. Меня спасли татары, под Аю-Дагом. Пришли немцы, и я вернулся. И вот, поставил крест. Там теперь, на могиле, памятник, а крест – сюда… Детишки пока, до отца, на ферме. Коров забрали. Осталась одна, пасу. Да вот, крест… Да, Ма-ша… да, крест, на всем…
Март, 1936 г.
Париж
Виноград
В городке у моря, с приходом добровольцев, жизнь как будто опять наладилась. Пошли толки, что теперь и в Европе поняли, наконец, опасность, «теперь уж возьмутся и нам помогут», и в подкрепление толков сообщали, что в Ялту пришли ихние корабли с пушками.
Пиньков никаких надежд на «Европу» не возлагал, бродил мрачный, неряшливый, обросший, перестал даже умываться, бросил читать газеты, целые дни проводил в пустынных балках и пас сиротливую свою «Хорошку» – последнюю корову из разграбленной большевиками фермы. Встречались мы с ним редко, только к ночи, садились обычно на веранде и молчали, следя за звездами: все у нас разговоры притупились. Как-то по осени, – было, помнится, в 19-м году, – вернулся он со своей «Хорошкой» особенно угрюмый, кокнул два-три яйца и проглотил сырыми, – весь и ужин. Стали смотреть на звезды, – вот и еще день перевалили. Нашему настроению отзывалась уныло сплюшка: сплю-у… сплю-у…