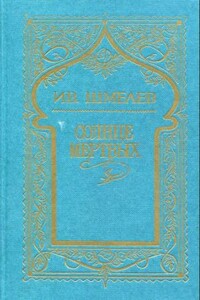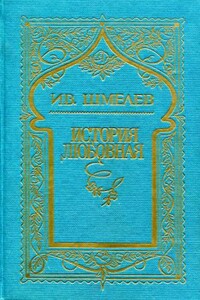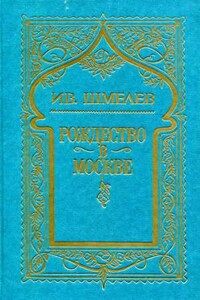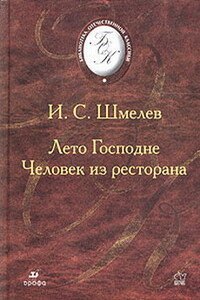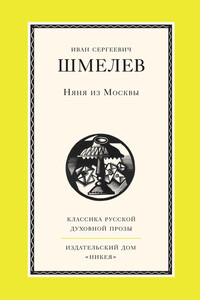В то лето, первый год революции, я жил у приятеля в Крыму. По дорогам еще не грабили, в садах и на виноградниках шли работы, приезжие купались, катались под балдахинами, езжали даже на пикники. В городке, внизу, наезжие неизвестные уже начали, правда, разогревать рыбаков и садовников – отбирать дачи у буржуев, но народ был мирный, трудовой, знавший копейке цену: дачку-то получить не плохо, да, пожалуй, про всех не хватит, и без драки не обойтись. Присланные «газовики», из лазарета, начинали уже трясти сады и выламывать розовые кусты, «для барышнев», но покуда было еще спокойно. А наверху, где я жил, было совсем мирное житие. Бродили по балочкам коровы, побрякивая боталами; зрели в стеклянном блеске облитые солнцем виноградники; постукивали ленивые можары на белой дороге за холмами; по утрам синеватые дымки дымились над тихими мазанками; белыми лебедями трепетало вымытое белье по ветру, где-то автомобиль поторкивал, дале-ко… – смотрели горы да сонно синело море.
Но приятель-художник уже не расставлял мольберта, не брал ни «стеклянного блеска виноградников», ни «балочки на солнце». Я был несказанно удивлен, когда заявил он мне, что теперь… «занялся коровами». Он был человек практичный, но не только это толкнуло его на фермерство. Он говорил, что идут новые времена и «будет предъявлен счет». Ну да, жизнью. – «А зависеть от хама не желаю!» В дальней балке он поставил зимой коровники, домик доильщицам, купил стадо голов пятнадцать, – «краса-вицы, а не коровы!» – и поставлял молоко для лазарета: дело полезное и верное.
– Сам работаю дьяволом, и ни одна скотина не посмеет орать на меня и называть буржуем. Работаю на государство.
Ну, и сам буду независим. Может и мужицкая кровь сказалась. Никакой не толстовец, а… любо мне. Буду писать коров, есть такие краса-вицы!.. Теперь критики скажут, что Пиньков от пейзажного импрессионизма ушел в «коровы», – плевать. В коровьих глазах я теперь вижу больше, чем в иной человеческой харе. А «харю» вы у меня увидите.
Пиньков и всегда был странный, что-то в себе носивший; но в тот приезд он показался мне чрезвычайно странным, резко переменившимся. Он ходил чуть ли не оборванцем, в обвислых штанах горохового цвета, в чувяках на босу ногу, в синей рубахе, пропотевшей и вонявшей коровником, в поярковой выгоревшей шляпе широким колоколом. Брился редко, ногти были поломаны и грязны, мужицкие руки в ссадинах, взгляд мрачный. Огромная его «студия» – вся его дачка состояла из одной этой комнаты, а я устроился в маленькой закутке, – представляла теперь какой-то разрытый склад: стояли мешки с мукой и отрубями, висела сбруя, грудились молочные бидоны, на стуле «прогуливалась» пропотевшая рубаха, отстаивались в блюдцах сливки, – а со стены глядели на всё это «кусочки солнца» в талантливых этюдах, репинский Толстой в поле, две-три коровьих морды и – круглолицая молодая баба с «коровьими» глазами. Лицо молодки выписано было сочно, играло жизнью.
– Вот это – же-нщина! – говорил Пиньков. – Но это что, тень только. Поглядите ее в натуре, на работе. Это – жизнь] Только она всё это… – показал он кругом, – освещает… и освящает. В этом – вся философия и весь смысл. Это – ро-бо-та! – выговорил он округло, веско. – Сила хозяйственности, порядка, верности. Я ее очень уважаю. И звать ее… ну, как вы думаете?.. Ма-ша. Лучше не подберешь. Я знаю народ, и знаю, во что может обернуться это… которое именуют революцией. Махрового представителя этого вы увидите… работает на ферме. А Маша… Ну, вы увидите – и поймете, почему я отдался ферме. Жизнь, говорят, борьба… – я борюсь.