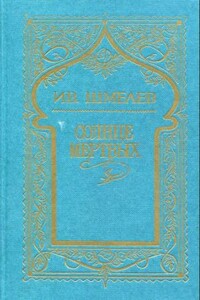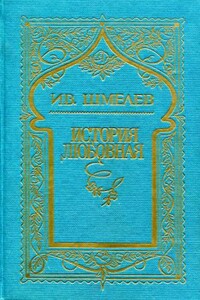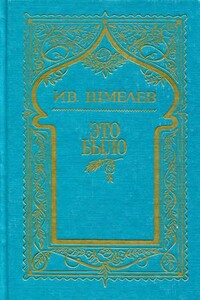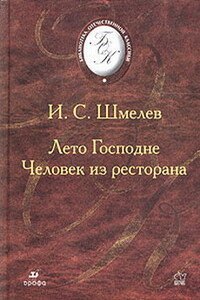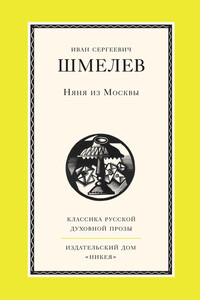– Постой-ка, Левон Матвеич… – сказал я ему и щелкнул себя по горлу, – «колеса смазать…».
У березок мы остановились. Я произвел смешение жидкостей в должной мере, и мы помянули прошлое, закусив яблочком.
– Михал Иваныч!.. Ангел вопияще!.. – бодал лысиной Левон Матвеич.
А я посматривал на березки. Милые вы мои, все те же… И травка та же, родная, горевая. И пахнет… помните, в хрестоматии… Гоголь, что ли… или Толстой… – «И пахнет свежей горечью полыни, медом гречихи и кашки»! Мне за это на экзамене влетело, за диктовку!
– Выпьем, старик! – налил я по второму, а он плачет.
– Михал Иваныч… Теперь хорошо, никто не видит… будто опять слободно, с вами. Осветили! Крови-то сколько приняла, впитала… – похлопал он по травке.
И вот, смотрю я на тихие березки… белые, золотые, на крови нашей! Повернулось во мне, как колья…
– Ну, – говорю, – старик… чувствую я… верно ты говоришь… впитана! Теперь она мне тысячу раз родней стала! Она скажет! Скажет?..
– Скажет, Михал Иваныч. Кровь всегда отзовется!
Пошел он к лошадям, встал перед ними, поглядел так, всплеснул руками, охватил морду чаленького, старого, – Василий Поликарпыч на нем на дрожках ездил, – ткнул в него, захлюпал. Шапка его свалилась, лысина покраснела, и по ней задрожали жилы. И чалый в него зафыркал. А меня слезы задушили.
– Ну, старик, едем. «В ударном порядке» – приказали! Так плох сосунок-то?
– Издохнет, Михал Иваныч. За вами поехал – дых у него стал частый. Теперь с англичанами воевать придется! – задребезжал его смех свистящий, и зуб его желтый засмеялся. – Да только они… визгу от них много… себя застращивают, чтобы еще лютее! Теперь вот… – конторщик мне говорил, – дикрет пишут! Чтобы по-нашему говорить не смели, а на весь свет изобретают! Книжку показывал конторщик… велено по-ихнему чтобы!.. – понизил старик голос, пригляделся к кустам и плюнул.
Кругом только березки были. И птичка какая-то пищала, прощальная.
А вон и Манино завиднелось по низинке, и во мне задрожало сердце.
II
Я увидал манинские сады, десятин на двадцать, – Царский, Господский, Новый… – в бархате строгих елей, в золоте и багрянце клена. Золотая чаша… расплескалась?..
Глухари загремели глухо – вкатили в еловую аллею. И поднялось былое. Вот увижу парусинную поддевку, белую бородку, палку, – покрикивает Василий Поликарпыч; к навесам ползут телеги, плывут на плечах корзины, желтеют-алеют груды, шуршит солома, и душит вином от яблок, – вином, смолою… Подводы плывут навстречу, жуют мужики
с хрустом, сияет солнце… «Здравствуй, Михал Иваныч! – кричит, бывало, – по яблочки приехал?..»
Да, черт… на сладкие тогда яблочки приехал!
Было как на кладбище грустно. В елях сады сквозили, сады дремали. Краснели точки. Мальчишки шныряли воровато, пугливо выглядывала баба – кто такие? Чернели пустынные навесы, где-то как в пустоту стучало, – в ящик?.. Бежала коровенка, орала девка, яблоками швыряли в коровенку: «А, лих те носит!..»
– Хозяйского-то глаза негу, гляди-ка!.. – сказал Матвеич. – Летось сгноили… нонче совсем не уродило… Сушильника намедни арестовали, Николая… За одно словечко! «Сволочи, царя убили!» Велели на чай жарить. Китайцы не дают чаю… ну, гыт, мы им покажем! Ну вот – казать и будем…
По низине пошел малинник, – десятины, вправо – поля клубники, ржавые сухие гряды, красно. По косогорам ряды «смороды», – так и звала Марья Тимофевна, – смородина, крыжовник. А вон и веселое сверканье, – одни за другими, стены, – оранжереи, грунтовые сараи, с высокими щитами – парусами. Пробоин сколько! – словно залито дегтем. За радугами стекол виднелось мне зеленое мерцанье, помнились грозди сливы, персиков, померанцев, шпанской вишни…
Если бы вы видали! Печкин-Печкин!.. Ярославец ты яро-славец!..
Смотрел на дырья…
– Верите ли, Михал Иваныч… стеклышка вставить не осилят! Что поморозили, поганцы!..
Белая, золотая слива! печкинские ренклоды… И Москва, и Питер, и Гельсингфорс, и Вена, и Стокгольм, и Лондон – все едали. Я вспомнил дипломы в золоченых рамах и золотисто-синий «ерб ве-ли-ко-британский!» – победу ярославца. Бывало, перед стенкой встанет, пожует бородкой на дипломы, глазок прищурит, – так у него из глаз-то – таким-то смехом, бойцовым таким, мудрющим!.. «Бумага… а красиво!» Весь белый, в жарко начищенных сапожках, легкий, щеки как яблочки, румянец стариковский этот, – поокивает мягко: