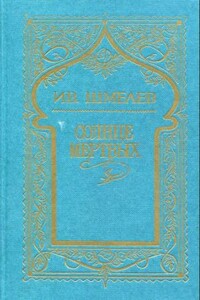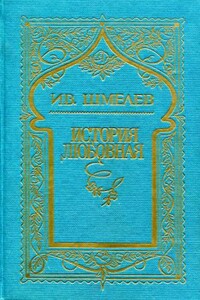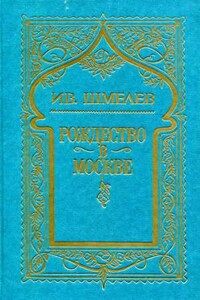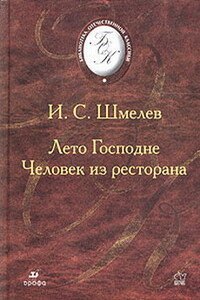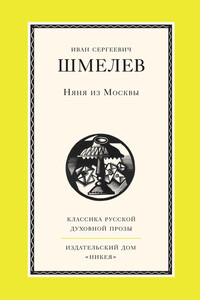– Если бы я был царь, – говорил он, выковыривая пальцем кильку из жестянки, – я бы моментальное просвещение приказал завести, а то в Сибирь! Не желаете просвещаться – пожжжа-луйте-с в тюрьму, в темную темни-цу! Как так – зачем? Да для всего надо просвещение! Вот хоть булгахтерия! А то… серость и серость! Вот вы, молодой человек, просвещаетесь? И хорошо… ро-маны читаете, «Ледяной Дом», как в древнее время жили… Или вот теперь в «Московском Листке» про Чуркина… не оторвешься! Про путешествия читаете? И это польза, хотя больше фантастический обман.
Как-то пришел он после Рождества и объявил нам:
– Желаете просвещения? Не пожалейте полторакашки для редкого случая! На подписку собираю, по знакомству, лавошникам даже рекомендую… Всего Пушкина за полтора целковых, цельную кучу книжек, дешевле пареной репы! По случаю смерти Пушкина. Кануло пятьдесят лет, и теперь все могут его печатать. Не поскупитесь для потомства, а… в память знаменитого человека! Вот, подпишитесь на листочке, напишите-ка две строчки…
* * *
И вот, как-то весной, почтальон приносит тючок в рогожке. А когда его распороли, оттуда посыпались пухлыми кирпичиками чудесно пахнущие свежей краской томики «Полного Собрания Сочинений А. С. Пушкина», в обложках фисташкового цвета. И тогда я открыл его, от детского портрета – крутолобого кудрявого мальчугана – до Памятника ему, открыл до конца, всего. И всего его прочитал и перечитал, встретил и «про кораблик», и «про зиму», и «Птичку Божию», и «Вещего Олега», пережил снова первую с ним детскую свою встречу, с незабываемой свежестью и радостями неосознанных и загадочных ощущений, необъяснимых и до сегодня, – это непередаваемое и поныне чувствование его – без человеческого лица, без смерти. Открывшийся мне в первые годы детства духовный его образ с годами стал только глубже и, пожалуй, еще необъяснимей.
1926
Культура… Во дни моего детства мы – я и моя округа – и слова такого не слыхали. А она была, эта культура, проникала невидимо как воздух, вливалась в нас, порой – и смешным путем. Кругом же была она! В церковном пении, в благовесте, в песнях и говоре рабочего народа из деревни, в тоненькой, за семитку, книжке в цветной обложке, – до пестрых балаганов под Новинском, до Пушкина на Тверском бульваре. Вливалась метко – чудесным народным словом. На самом пороге детства встретил я это слово, живое слово. Потом уж – в книгах.
И вот, вспоминая детство, – скромное, маленькое детство, – вижу я в нем большое, великий подарок жизни, – родное слово.
Родное слово – это и есть культура.
Я уже рассказал страничку моей «культуры», – «Как мы открывали Пушкина». Теперь расскажу, как мы узнавали Толстого, – я и моя округа.
* * *
Впервые о Толстом я узнал от парильщика Ивана Хромого, старого солдата. Было мне лет восемь. Иван вымыл меня до лоску, попарил даже веничком на полке, и, щекоча бородою у грудки, понес осторожно в одевальню. Нес, притопывая на хромую ногу, и, как всегда уж, желая доставить мне удовольствие, хрипел любимую мою песенку про блошку;
Блошка парилась,
С полка ударилась,
На приступке приступила –
Изувечилася!..
Пахло от Ивана вином, пахло и паром, и березкой, и покачивался он на хромой ноге, которую «подгрызли ему турки», но доставил меня на диванчик в сохранности и положил нежно, как мать ребенка. Медный крестик его приятно скользнул по мне, щекотнул холодочком тело.
– Ноготки ему пострычь бы надо, как у петушка стали… – сказал он парню, ерошившему меня простынкой.
Парень стал меня мучить с ножницами, а голый Иван, в одной розовой рубахе закурил свою трубочку и, поплясывая, принялся впрыгивать в панталоны.
– А давешняя книжка где?.. – спросил он, впрыгивая. – Да какую им показать-то принес…
Мне, значит. Книжка оказалась в воде, на подоконнике. Иван поднял ее двумя пальцами, отряхнул, как тряпочку, о колонку, брызнув мне на лицо, – тоненькая была она, розо-венькая, – и подал мне на ладони:
– Говорят, шибко вы читать стали, почитайте-нате, чего пишут. Левон мне дал поглядеть, лакей от графа Толстого из Хамовников подарил, мылся. Его, говорит, барин сам эти книжки пишет, граф Толстой-писатель.