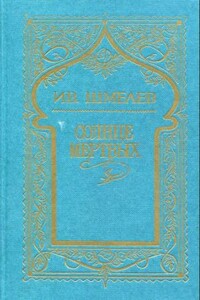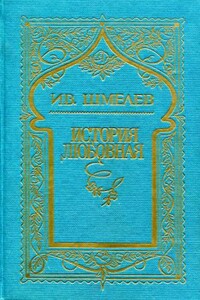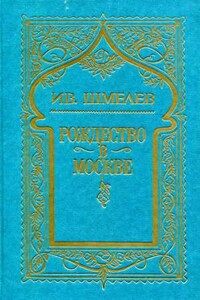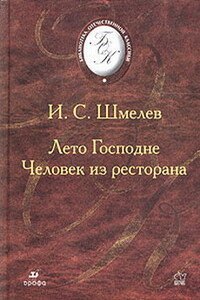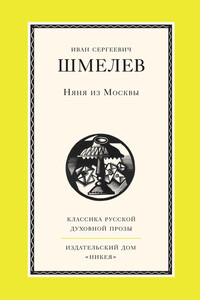Через два дня я получил радостный ответ из далекой Тарусы: «Еду к тебе, встречай в Константинополе».
Я ничего не понял. То есть я понял, но… девочка-то наша? Письмо разъяснило все. Девочку отдали кормилице. Дали сделали свое дело и мои письма-зовы. Дали закрыли девочку. Мы, мы – жить хотели! Тогда все закрылось одним – любовь. Подходила весна, весна южных морей, когда камни рождают розы, когда молодые глаза сверкают, как осыпанные росой первые листочки, а за каждым кустом, за каждым камнем, чудится, притаилось счастье, – протяни только руки.
Это был для меня подарок Бога.
Мы встретились… Она принесла с собой ароматы родной зимы на собольей своей горжетке и зовы весны – в глазах.
Я помню эту весну Стамбула, бирюзу Золотого Рога, золотые рога Волов Солнечных… Помню сверканье золотого дождя на солнце и триумфальную арку радуги, ворота из перламутра в море, которые Бог построил для нашей встречи…
Мы спали в лодках, покачиваясь, как дети в колыбели, кидались – играли розами, молодые язычники. Я шептал ей Анакреона, самое его жгучее, отравляющее истомой-ленью, и переливал в наше слово – до голости вольным переводом, очень вливавшим. Мы пили вино-любовь, вино и солнце, а гребец-турок, сваливши парус, пел нам, сидя на корточках, свои маленькие, как птички, песенки и играл на какой-то штуке – длинная, помню, шейка, круглая.
Как опьяненные, забывшие все на свете, мы гонялись по старым камням соседних деревушек, городков когда-то, давно разрушенных уже раз по двадцать, когда-то культуру знавших, теперь обратившихся в пустыри. Чего мы только не повидали, где только не побывали!..
У старого рыбака в Эреклии нас ожидало – чудо. Не счастье – чудо. Боги решили остаться щедрыми до конца.
Помню, тихий был, золотистый вечер. Жемчужный вечер, – жемчужные облачка в закате. Мы выходили из таверны, бедной-бедной, где можно было достать только козьего сыру, вяленую кефаль и красного вина в глиняном кувшине, пахнувшего капустой, но все это было ужасно вкусно. Фаэтон поджидал нас, чтобы повезти в Сан-Стефано, где мы остановились. Мы уже собирались садиться в коляску, я ступил, помню, на подножку, как вдруг жена выскочила шаловливо… да, она уже сидела!.. – и неожиданно заявила, что хочет купаться в море. Вода была еще холодна, был уже вечер, косое солнце, – купаться было безумием. Я нежно протестовал, но – женщина ставила на своем. Правда, в России она до сентября купалась.
Она купалась в бирюзовом море, весеннем, золотистом, молочном – в жемчужном море. Я и сейчас, закрывши глаза, вижу ее, играющую перламутром, – и жемчуг в небе. Это тоже был дар богов, дар-усмешка. Да, в этот безумный день, в самый тот вечер «жемчуг», в далекой глухой Тарусе, мучилась наша девочка…
Ах, Димитраки… чудак-философ!..
«Каждый об себя убивается… И ты убьешься!»
Мы – убились. И – «об себя».
Но за этим даром богов последовал дар безмерный…
Пьяный не от вина, я созерцал море, золотисто-жемчужную даль его и близкое, дорогое, что розовато плескалось около. И вот – неслышными шагами, – я испугался, помню, как он подошел неслышно в размятых суконных туфлях, – приблизился ко мне грязный рваный старик, болгарин или турок. Он что-то вертел, завернутое в тряпку.
«Добрый вечер, хозяин», – сказал он умирающим голосом.
Это был грек, конечно, плешивый и курносый, ужасно похожий на Сократа. И сильно пьяный. Он сказал «калиспэра», что ли.
И не говоря ни слова больше, он, почмокивая, развернул тряпку и ткнул мне в лицо… редкостное, чудо-чудное!..
Я смотрел и глазам не верил. И все кругом было – чудо. Море, жемчужное, в котором рождается Венера, – и Венера, хрустальная, тихо светилась в небе, в зеленовато-весенней и розоватой сини. И подлинная Венера, не смущаемая старческими глазами грека, выходила из вод, играя снежною простынею, по которой струилось розовое солнце. Но самое чудо – было в моих руках. Я смотрел на костяные дощечки…
«Купи, хозяин… – просил старик, – на что-нибудь годится… штука священная!»
Я смотрел на него растерянно, не сознавая, – да явь ли это? Но тяжкий запах вина от его лохмотьев, от трясущихся рук, от раздутого желтого лица, вздрагивавшего, как студень, от полумертвых глаз, налитых мутной влагой, – было подлинной грязной явью. И его слово – «штука»!