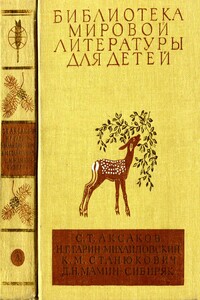Аглаида Васильевна горячо расцеловала сына.
— Лучшего подарка ты не мог мне сделать…
— Молодец, молодец, — твердил дядя, — это, брат мой, характер и характер нужно… Молодец…
Карташев сразу вырос в глазах всех. Он ушел, сопровождаемый молодежью, в свою комнату, а Аглаида Васильевна перебросилась с братом несколькими радостными замечаниями. Ее брат затягивался, качал головой и повторял:
— Молодец, молодец… способный, с характером… громадную карьеру сделает.
Карташев возвратился и по лицам матери и дяди угадал, что речь, и благоприятная, шла о нем. Мать молча опять расцеловала его и в глаза, и в губы, и в лоб, и в волосы. Карташев ловил ее руки и с удовольствием целовал их.
Мать ушла и возвратилась с сотенной бумажкой.
— Это тебе за первый курс.
Дядя ушел и вернулся с двумя выигрышными билетами.
— А это вот от меня.
— О-го-го!
Карташев опять горячо расцеловался с матерью и дядей.
— Молодец, молодец, в наш род пошел… это хорватовская черта: не удалось в университете — в институт.
У Наташи глаза точно еще больше стали: черные, большие, задумчивые; немного похудела, и кожа точно прозрачная, матовая; черные густые волосы еще ярче оттеняют красивый, строгий овал лица. Ходит за Тёмой; когда говорит он — подожмется и слушает внимательно, серьезно.
— Что с Горенко? Давно ты видел ее? Отчего она писать перестала?
Карташев рассказал о Горенко, об Иванове и Моисеенко и сообщил о том, что держал себя в стороне. Мать перекрестилась.
— Да ведь это и ни с чем не сообразно бы было, — сказал дядя, — если бы человек с такими способностями, как ты, вдруг на детский разум перешел.
Карташеву стало неловко от этих похвал, и он озабоченно произнес:
— Увлекаются, конечно… Дети…
— Преступные дети, — с ударением, строго заметила Аглаида Васильевна, — сами гибнут и семьи свои губят.
— Отчего же у тебя переписка с Горенко прекратилась? — спросил Карташев Наташу.
Наташа посмотрела на мать.
— Она звала меня в Петербург, я писала ей, что мама не пускает меня, она больше и не отвечала.
Наступило неловкое молчание.
Аглаида Васильевна, облокотившись, смотрела, опустивши глаза, на скатерть.
— Тёма, — проговорила она, — ты уж большой и видел Петербург: твое мнение какое — можно ехать Наташе?
Наташа радостно встрепенулась.
Карташев хотя и любил Наташу больше других сестер, но жизнь с ней в Петербурге не улыбалась. Затем выступили и другие соображения. Хотелось и Аглаиде Васильевне доставить полное удовольствие и еще больше вырасти в ее глазах.
— Я нахожу неудобным, — сказал он.
— Брат говорит! — торжественно произнесла Аглаида Васильевна.
Наташа с разочарованием посмотрела на брата.
Карташев, сперва смущенно, а потом оправившись, начал приводить доводы, почему именно неудобно ехать Наташе. Он не хотел, конечно, врать, но хотел быть убедительным. Мать внимательно слушала и изредка убежденно, серьезно говорила:
— Совершенно верно.
Дядя энергично тряс головой и говорил:
— Очень дельно.
Наташа сначала возражала, но брат стал приводить какие-то факты и убеждал с ласковым упреком:
— Наташа, я же знаю и говорю то, что есть…
Наташа наконец с своей болезненной гримасой, махнув рукой, проговорила:
— Я не знаю, какие там, но я знаю, кто я…
— Нет, ты слишком молода, чтобы знать себя, — возразила мать.
— Ну, не знаю, — развела руками Наташа и замолчала.
Карташеву жаль было Наташу, и он старался быть с ней особенно ласковым и внимательным. Легкой тучкой набежавшее было сомнение относительно брата быстро исчезло, и Наташа думала: «Что ж, если это его убеждение? Он любит меня и, конечно, желает добра», — и она была с братом нежна и ласкова. Они ездили вместе по магазинам. Тёма купил ей духов, накупил подарков и остальным сестрам, брату купил большой перочинный нож, взял ложу в театре, катался с родными на лодке.
— Какой Тёма стал любящий, ласковый, — говорила Аглаида Васильевна.
Пять дней — а только на пять дней и приезжал Карташев — пролетели быстро.
Был Карташев и у Корневых. Говорил с Маней о прошлом, заглядывал в ее будущее, рисовал ей, как она выйдет замуж, в каких дворцах будет жить, просил позволения и тогда быть ее другом. Оба весело смеялись, и Карташев краснел, всматриваясь в ее ласковые карпе глазки, в ее шейку, такую же белую, какой была она, когда в первый раз он увидел ее гимназистом. Теперь и шейка и вся она, Маня, была еще красивее, сильнее тянула к себе, без боли, как красивая картинка, прекрасный пейзаж. Наклонился бы, поцеловал это белое плечико и почувствовал бы сильнее прелесть дня, радость жизни, свою и ее молодость… И казалось Карташеву, что она ответила бы тем же или, по крайней мере, поняла, что влечет его к ней. Засыпая, он думал о Корневой… Прекрасная, стройная, она была где-то близко-близко, он чувствовал ее дыхание, ее голос, взгляд — влажный, жгучий, чудный, как лучшее из всего, что есть на свете. Жениться, увезти ее с собой? Карташев задыхался при мысли о таком блаженстве и долго ворочался под одеялом.