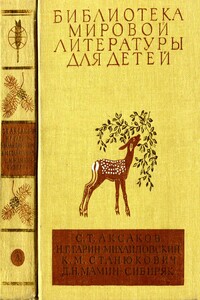Ярко, с мучительной болью, в какой-то недосягаемой рамке блеска и прелести вырисовывались перед ним и этот полный жизни гусар, и итальянка. Под впечатлением таких мыслей Карташев говорил Шацкому:
— А ты знаешь, когда мне было десять лет, меня тоже требовали в пажеский корпус.
— Ну и что ж?
— Мать не пустила.
— Напрасно.
— Теперь бы я уж был…
— Обладателем итальянки…
— Я не желаю ее.
— Не желаешь? А ну-ка, посмотри мне прямо в глаза, как матери посмотрел бы… Стыдно, Тёма, ты научился врать…
Однажды Карташев попросил у Шацкого денег.
— Сколько? — спросил тот.
— Пятнадцать.
— Зачем тебе столько?
— Мне надо… билет в театр…
— Я тебе возьму.
— Да что ты мне, опекун, что ли?
— У меня мелких нет…
Шацкий и дальше стал давать по мелочам, — водил его с собой в театр, но от выдачи на руки более крупной суммы под разными предлогами уклонялся.
Однажды Карташев, чтобы избавиться от неприятной и постоянной зависимости, начал настоятельно требовать двадцать пять рублей.
— У тебя теперь есть мелкие…
Шацкий замолчал, поднял брови и с соответственной интонацией спросил:
— Ты знаешь, сколько ты уже взял?
— Сорок рублей… Двадцать пять на рождество, а пятнадцать, как получу, отдам.
— А жить на что будешь?
— Не твое дело, — покраснел Карташев.
— Конечно… но дяде ты написал бы?
Карташев молчал.
— Если ты напишешь дяде, я дам тебе хоть сто рублей.
— Я не желаю больше с тобой разговаривать.
— Я должен тебе сказать, мой друг, — вспыхнул Шацкий, — что ты делаешься окончательно несносным.
Приятели поссорились.
Шацкий оделся и ушел. Перед уходом ему надо было что-то взять там, где сидел Карташев, и он, протянув руку, сухо сказал:
— Извините.
Со дня на день Карташев ждал повестки из дому, и чего бы ни дал, чтобы получить ее сегодня и, выкупив вещи, неожиданно явиться в театр и сесть в первом ряду кресел, назло Шацкому.
Но ни повестки, ни денег не было.
Пробило восемь часов. Шацкий, очевидно, в театре и теперь окончательно не придет. Надо достать денег и идти в театр, — надо без рассуждений. Висело на вешалке только осеннее пальто, которое, при общем закладе его вещей, забраковал Шацкий.
Карташев взял пальто, чтобы заложить в первой попавшейся кассе ссуд, но неожиданно встретился в передней с Корневым.
— Васька! Какими судьбами? — обрадовался Карташев.
— Да вот, к тебе. Билет на завтра в «Гугеноты» брал… Ну, думаю, чаю напьюсь.
Карташев повел Корнева к себе.
— Ты что ж сегодня не в оперетке?
Карташев весело улыбнулся.
— Я больше к Бергу не хожу.
— Вот как. Чего ж это?
— Надоело.
— Очень рад за тебя. Я никогда не мог понять этого влечения. Ну, я понимаю еще оперу, драму: там есть чем увлекаться. Но что такое оперетка? ведь это просто балаган, даже физического удовольствия нет. Я понимаю… ну тех, гусаров, им доступно все это, а ведь вы облизываетесь только…
Лица Корнева побледнело и перекосилось: он смотрел и едко и смущенно своими маленькими заплывшими глазами в глаза Карташева. Но в голосе его было столько убежденности, искренности и благорасположения в то же время, что Карташев не только не обиделся, но под впечатлением всех своих неудач ответил:
— Да, конечно.
— Ты скажи, ты был хоть раз в опере?
— Нет; да там никогда ведь билетов нет.
— Надо заранее. Я для этого сегодня и отправился. Жаль, а то бы я и тебе взял. Я, положим, имею один билет для товарища… Дать разве тебе…
— В раек? — нерешительно спросил Карташев.
— Ну, конечно… Послушай, Карташев, оставь ты холуям морочить самих себя. Право, и в райке прекрасно, а сознание, что при этом и по средствам сидишь, должно только усилить удовольствие. Я не знаю, впрочем… так моя философия, по крайней мере, говорит мне.
— Да, конечно, это важно. Что ж? Я согласен.
Корнев просидел у Карташева весь вечер. Время в разговорах летело незаметно.
— Черт его знает, — говорил Корнев, — скучная жизнь… Сегодня, как завтра, завтра, как сегодня… Я теперь перечитываю классиков…
— Мало того, что мы сами классики?
— Какие же мы сами классики? Грамматику Кюнера вызубрили…
Корнев усиленно грыз ногти, напряженно смотря перед собой.
— Глупая жизнь, — с горечью снова заговорил он. — Целый ряд вопросов… В литературе какой-то туман, недосказы, намеки и проза, проза… щедринские зайцы. Помнишь: «Сиди и дрожи, пока я тебя не съем, а может быть, ха-ха, я тебя и помилую».