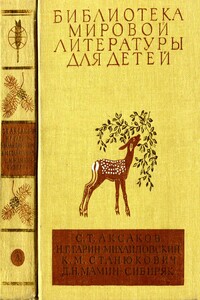Скоро и Аделаида Борисовна и Карташев забыли о своем падении, отдавшись осмотру дома и рассказам.
— Вот и здесь меня раз высек отец… Господи, я, кажется, только и вспоминаю, как меня секли. Боже мой, какая это ужасная все-таки вещь — наказание. Около двадцати лет прошло, я любил папу, но и до сих пор на первом месте эти наказания и враждебное, никогда не мирящееся чувство к нему за это… Тебя, конечно, никогда не наказывали?
— Нет… Меня запирали одну, и я такой дикий страх переживала…
На лице Аделаиды Борисовны отразился этот дикий страх, и Карташев совершенно ясно представил ее себе маленьким, худеньким, испуганным ребенком, с побелевшим лицом, открытым ртом без звука, которого вталкивают в большую пустую комнату.
— А, как это ужасно! Деля, милая, мы никогда пальцем не тронем наших детей.
— О, боже мой, конечно, нет!
И они еще раз горячо поцеловались.
— Я как будто, — говорил Карташев, — теперь, когда побывал с тобой здесь, никогда с тобой не разлучался. Ах, как хорошо это вышло, что мы поехали на кладбище, сюда. Мы опять и уже вдвоем родились здесь и с этого мгновения вместе, всегда вместе пойдем по нашему жизненному пути.
Они шли, держась за руки, и она молчаливо горячим пожатием отвечала ему.
— Еще на колодезь зайдем, откуда я вытащил Жучку.
По-прежнему там было тихо и глухо.
Карташев заглянул и сказал:
— Какой мелкий: не больше сажени, а тогда казался бездной без дна. Все как-то стало меньше — и сад и дом… Все тогда было больше…
Лестница уже стояла у стены, и около нее Еремей.
И Еремей уже не тот. Еще худее, выросла большая белая борода. За Зоськой умерла и толстая мать его Настасья, звонко кричавшая, бывало, сыну:
— А сто чертей твоему батьке в брюхо!
Другая теперь, злая, как ведьма, такая же худая, как и Еремей, ест поедом покорного, тихого, всегда бессловесного Еремея.
— Как здоровье Олимпиады?
Еремей махнул рукой и ответил неопределенно:
— Живет! На базар, бес, ушла…
Карташев дал ему двадцать пять рублей, и на бесстрастном лице Еремея сверкнула радость.
— Дай, боже, — говорил он, поддерживая лестницу, — щоб счастье, богатство було, щоб не перебрали всех денег…
На этот раз и благополучно взобрались, и благополучно спустились на другую сторону.
Домой приехали только к часу.
Их встретили все с радостными возгласами, поздравлениями и вопросами, где они запропали.
— Послушай, — весело кричал издали Сережа, — поддержи коммерцию и не выдай: я держал пари на сто рублей, что вы уже обвенчались? Неужели проиграл? Войди в мое положение…
Когда подошли и увидели расцарапанное лицо Аделаиды Борисовны, опять забросали вопросами: как, что случилось? А Сережа громче всех кричал:
— Ну, я выиграл, выиграл: повенчались, и он уже побил свою жену!
Когда выяснилось, откуда эта царапина, раздался общий вопль:
— Тёма!
И все смеялись, тормошили Карташева и кричали:
— Тёма сумасшедший!
Евгения Борисовна качала головой и с ласковым упреком говорила сестре:
— Как же ты согласилась лезть на стену?
Маня кричала:
— Нет, кто, кроме Тёмы, придумает в первый же день тащить свою невесту на стену и прыгать оттуда? Во всяком случае, Деля, ты видишь, как опасно за этим господином слепо следовать. Именно с ним и надо всегда и за него и за себя все обдумывать, а иначе он заведет вас в жизни в такие круги, из которых и выхода не будет.
Аделаида Борисовна ласково и весело посмотрела на жениха и ответила:
— Куда он пойдет, туда и я пойду, и всегда будет выход.
— Деля, Деля! Погибла…
Сережа отвел брата и сказал:
— И я погиб: как теперь заплачу проигрыш?
— Кому ты проиграл?
— Положим, самому себе… От этого меняется разве что-нибудь?
— Ничего не меняется, и я плачу за тебя проигрыш.
— Я всегда знал, что ты благородный человек: давай деньги!
Когда все успокоились, Евгения Борисовна, скромно и в то же время торжественно, подошла к Карташеву и сказала своим обычным наставительным тоном, слегка картавя:
— Я поздравляю от души вас и Делю. Сделайте ее счастливой… — И, улыбаясь, прибавила: — Старайтесь больше не царапать ее: пусть этой царапиной ограничатся все неприятности вашей будущей семейной жизни…
Отъезд был назначен на другой день.