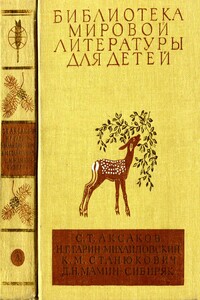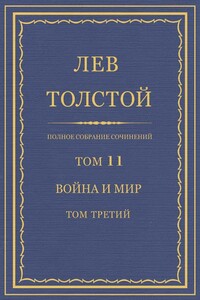— Ну, что ж? я женщина молодая, известно… Что и не погуторить? Муж у меня плохой: хворый да недужный.
И вдруг, перейдя опять в веселый, лукавый тон, она кончила:
— Ишь жеребцы… пра-а…
— Если хочешь, она в своей колоссальности и недурна собой, — сказал Карташев, когда она ушла.
— Ну, — пренебрежительно махнул рукой Корнев.
— Ее бы на арку Большой Морской.
— Вот именно… Что ж, ты так-таки ни с кем и не познакомился в университете?
— Решительно ни с кем, — ответил Карташев.
— А я здесь уже кое с кем свел знакомство.
— Ну?
— Да кто их знает… всё, конечно, наш брат… топчутся они на том же, на чем и мы когда-то…
— Неужели ничего нового?
— Кажется, желание на стену лезть.
— Но ведь это же бессмысленно.
— То есть как тебе сказать…
— Вася, да, ей-богу же, это мальчишество. Прямо смешно… Здесь особенно, в Петербурге, так ясно… Что ж это? Только шутов разыгрывать из себя…
Корнев грыз молча ногти…
— Да, конечно, — нехотя проговорил он. — А все-таки интересная компания, их стоит посмотреть… Оставайся ночевать… Пойдем завтра в нашу кухмистерскую.
— С удовольствием.
— Смутишь ты их разве своим костюмом…
— Что ж такое костюм? Я и перчатки надену.
— Только ты все-таки будь осторожен, а то ведь у них язычок тоже хорошо действует.
— А мне что?
— Сконфузят.
— Ну…
— Есть и барышни…
— Конечно, — все дураки, кроме них?
— Послушай, откуда у тебя вдруг эта нотка? не платки же они таскают из кармана… Нет, ты брось это раздражение…
— Можно создать и более реальные интересы…
— Какие?
— Вот поживем, — ответил Карташев.
Корнев пытливо посмотрел на него и раздумчиво пробормотал:
— Дай бог…
— Вася, согласись с одним: у них узко… а все, что узко, то не жизнь… Может быть, я и ошибаюсь, но я не хочу верить на слово — я хочу сам жить и убедиться.
— Но что такое жизнь? Надо же ей ставить идеалы.
— Но взятые из жизни.
— А если эта жизнь мерзопакостна?
— Неужели так-таки вся жизнь мерзопакостна? Я не верю… Я иду в жизнь… ставлю свои паруса, и что будет…
— Без компаса?
— Мой компас — моя честь. Я вчера у Гюго читал: он говорит, что двум вещам поклоняться можно — гению и доброте… Честь и доброта, — Васька, право, довольно и этого!
— Посмотрим… Конечно… А интересно — лет через десять что выйдет из нас? Конечно, жизнь не линейка — взял да провел черту… Я вот думаю: что из тебя выйдет?
Корнев подумал:
— Глупое, в сущности, наше время… Развития в нас настоящего нет… В сущности, туман, большой туман у всех…
На другой день Корнев повел Карташева в кухмистерскую.
Прием ему был оказан такой холодный и пренебрежительный, что даже Корнев смутился.
После двух-трех слов с Карташевым прямо не хотели говорить.
Карташев смущенно уткнулся в газету.
Злое чувство охватило Карташева. В это время в столовую вошло новое лицо, при взгляде на которое Карташев так и прирос к полу.
Это был худенький студент, в грязном потертом вицмундире, на плечах и спине которого была масса перхоти, волосы на голове торчали черной копной, косые черные глаза смотрели болезненно и твердо. Черная бородка пушком окаймляла маленькое хорошенькое лицо, но, несмотря на бородку и мундир, это был все тот же маленький друг его — Карташева, друг, которого он когда-то…
— Иванов! — вырвалось из груди Карташева и сейчас же заменилось сознанием и прошлого, и отчужденности своей здесь, в этой кухмистерской.
Иванов внимательно, спокойно всмотрелся в Карташева, как во что-то, ради чего должен оторваться хоть на мгновенье от своего главного, что теперь поглощало все его помыслы…
— А-а, Карташев…
Это было сказано так, что Карташев почувствовал, что перед ним стоит чужой человек. Одна страстная мысль овладела им в это мгновенье: прочь, скорее прочь отсюда.
— Кончил? — спросил его между тем Иванов.
Кончил, конечно, гимназию…
— Да, кончил, — сухо, испуганно ответил Карташев.
— Куда же? В путей сообщения? — рассеянно спросил Иванов.
Карташев сдвинул брови.
— Хотел, но струсил, — вызывающе ответил он.
— Что же так?
К Иванову один за другим подходили, здоровались и незаметно увели его в другую комнату.
Карташев торопливо одевался.
Корнев молча, уже одевшись, наблюдал его и грыз ногти.
— Ко мне пойдешь? — спросил Корнев.