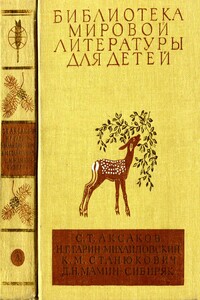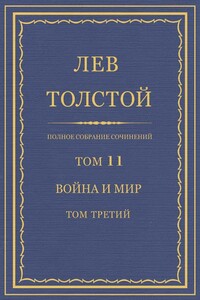Возбужденное и праздничное настроение Карташева опять сменилось знакомым уже чувством пустоты и неудовлетворенности. Лица толпы были неприветливы или равнодушны. Встречавшийся взгляд или безучастно осматривал его фигуру, или смотрел угрюмо и даже враждебно.
В общем, это была все та же отчужденная толпа улицы, вызывавшая гнетущее ощущение. Так же на каком-нибудь гулянье, на Невском, равнодушно смотрели и проходили дальше. Здесь даже было что-то худшее: точно собрались конкуренты на одну и ту же должность, собрались и уже меряли своих противников, скрывая это под личиной равнодушия, пренебрежения, высокомерия и раздражения. Это уже не гимназическая толпа и не гимназические товарищи.
В гробовой тишине прозвучали глухо первые слова профессора:
«Милостивые государи!»
Точно яркая молния осветила повеселевшего вдруг Карташева. Это он-то милостивый государь? Но кто же другой? Конечно, он, студент петербургского университета. Не гимназист, а студент; не мальчишка, а молодой человек, пришедший вместе с другими сюда узнать то, что поведает ему этот знаменитый старик. И только для этого и больше ни для чего пришел и он, и все другие сюда, и все остальное — такая мелочь… пошлая и глупая… Радостное чувство охватило Карташева, и он вдруг впервые ощутил какую-то тесную связь с этой толпой. Нет, все-таки это уже не толпа улицы, это его толпа. Эта аудитория тоже не улица — это источник света, знания. Он молодой, во цвете сил, и перед ним длинная жизнь, и все, все будет в ней зависеть от того, какой фундамент успеет заложить он в эти, в сущности, короткие дни своего учения. О, надо слушать обоими ушами, слушать и не терять ни одного дорогого слова!
Но прежде всего надо было привыкнуть слушать. Сперва слова сливались в какой-то один неясный гул. Но мало-помалу звук стал яснее, и Карташев уже различал слова и отдельные предложения. На этом, впрочем, пока все и остановилось. Карташев слушал, различал слова, группировал их в предложения, вникал в смысл, а профессор в это время говорил уже что-то новое. Карташев бросал старое, хватался за это новое, напрягался изо всех сил, точно бежал запыхавшись. Казалось сперва, что все шло хорошо, но вдруг опять он спотыкался обо что-то, и в его голове все собранное сразу разлеталось.
Чем дальше шла лекция, тем все напряженнее и глупее чувствовал себя Карташев. Точно он слушал не энциклопедию права, а какую-то высшую математику, ряд непонятных, бог весть откуда взявшихся формул.
А между тем профессор читал только еще вступление к предмету, ко всем этим всевозможным философским системам от Фалеса до Тренделенбурга, собирался только приступить к пространному введению о методах диалектическом, органическом, историко-генетическом. Этот последний был его собственный метод, и Карташев смотрел с широко раскрытыми глазами и думал, в какую бездну надо погрузиться, чтобы не только понимать, а еще и изобрести этот какой-то страшный метод.
Прочитав час, профессор ушел и через несколько минут опять возвратился. Карташев с новым напряжением принялся слушать, опять магически кольнуло его «милостивые государи», и опять он точно погрузился сразу в какой-то бездонный хаос. Утомленный, он еще меньше понимал теперь.
«Но ведь я, — думал с отчаянием Карташев, — даже Бокля читал, читал Добролюбова, Чернышевского, Флеровского, Щапова, Антоновича, Писарева, Шелгунова, Зайцева, а вот этого не понимаю. Я считался одним из способных, математика всегда для меня была легким предметом. Профессор на поверочном экзамене по словесности, как только я заговорил о Шишкове, о школе Кочановского, пришел в восторг. А посмотрел бы он теперь на меня — каким дураком я сижу… А другие, — они понимают?»
Карташев внимательно всматривался в лица слушателей. Одни были напряжены, другие без всякого выражения равнодушно смотрели в лицо профессору, третьи что-то чертили и двое-трое старательно записывали. Записывать в надежде сосредоточиться попробовал было и Карташев, но из этого ничего не вышло.
Он уже знал, что ничего не поймет, и думал только о том, чтобы придать своему лицу такое же выражение, как у всех. Он чертил петушка, отрываясь, делал вдруг вдумчивое лицо и, смотря в потолок, кивал головой. И в то же время он то и дело смотрел потихоньку на часы.