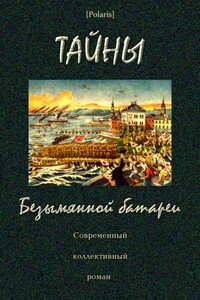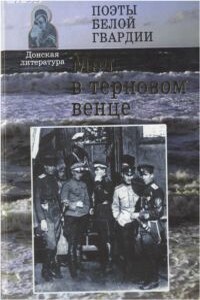Настроение у всех было убийственное. Кореец, видимо, понял, что мы себя чувствуем отвратительно, и сказал нам:
— Завтра кончай. Санчагоу есть.
Но и это уже нас не очень обрадовало. Голодная ночь страшила нас, страшил и предстоящий день пути — как-то доползем, и доползем ли? Мне было особенно плохо, потому что мои ночные туфли уже стали разваливаться, надеть же ботинки, которые я нес в котомке за спиной, мне было жалко: разорву моментально — в чем приду в Харбин? Можно, конечно, было бы купить новые ботинки в Санчагоу или на ст. Пограничной, но на эту покупку у нас явно не хватало денег.
Ноги у меня страшно болели. Но я решил хоть босиком, но дойти до Пограничной, не тратя хорошей обуви.
И вдруг корейский старикан достает из своей котомки и протягивает мне превосходные ночные корейские туфли, сплетенные из шпагата.
Ах, как я возликовал, — даже сердце у меня забилось от радости!
— Доши чен? — спрашиваю я.
Старик отрицательно качает головой, он не хочет денег, — это подарок? Он что-то долго говорит, мешая китайские слова с корейскими. Понимающий немного по-китайски Антик объясняет мне:
— Кореец говорит, сколько дашь, и ладно. Дай ему иену.
Я даю иену, и наш проводник знаками благодарит меня. Вопрос с моими ногами улажен благополучно. Теперь заснуть бы, чтобы подкрепиться сном для завтрашнего дня, накопить сил. Ведь завтра опять целый день идти по таежной тропе.
Но заснуть-то я никак не могу. Меня начинает трясти, и не только от холода и ветреной ночи. Нет, я чувствую озноб, меня лихорадит, и я понимаю, что это простуда, результат, вероятно, семикратного купанья в Суйфуне и непросохшей одежды. И меня охватывает страх. Что если я заболею и завтра не смогу следовать за товарищами? Как я свяжу их, больной! Что они со мной сделают? И ужас быть покинутому в этой тайге, покинутому без куска хлеба, без горсти крупы тяжелой волной придавливает мою душу.
Сотоварищи мои тоже не спят, они ворочаются у костра — каждый думает свою думу. Может быть, и им нездоровится, их тоже знобит, но и они молчат, как молчу и я, не желая ухудшать и без того невеселое общее настроение.
Я засыпаю на час или два, не более, и просыпаюсь еще затемно. Я весь в поту и в ознобе, я дрожу. Да, я болен. Просыпаются и мои спутники. Костер гаснет.
Кто-то говорит мне:
— Арсений, дай-ка хворосту. Твоя очередь.
Я пытаюсь подняться, но бессильно опускаюсь на землю.
— Не могу! — просто отвечаю я.
— Почему? Что с тобой?
— Плохо! Жар и весь дрожу. Не знаю, как дальше пойду.
Все угрюмо молчат. Кто-то встает, чтобы выполнить за меня необходимую работу. Костер опять пылает. Мичман Гусев говорит мне:
— Подвиньтесь ближе к костру, прогрейтесь! Солнце взойдет, вам будет лучше. Главное, не кисните, не поддавайтесь.
Молчим.
С первыми лучами солнца собираемся в дальнейший путь. С великим трудом встаю и я. Ах, как болит всё тело, как хочется лечь и лежать, лежать, лежать, ни о чем не думая! Всё совершенно безразлично.
Я плетусь позади всех, хотя товарищи разгрузили меня от всей поклажи. Они идут, всё время оглядываясь на меня, иду ли я. Они уменьшают шаг, но я все-таки отстаю.
И вот я чувствую, что больше идти не могу и что напрягаться мне незачем, — если не сейчас, то к полудню я всё равно сдам, лягу, совершенно лишенный сил, или упаду в обморок, ибо и так я уже иногда ничего не вижу перед собой: зеленые и красные круги застилают мне зрение.
И под каким-то высоким деревом, меж его корней, как змеи выползших на поверхность земли, на мягком, еще росистом, моховом ложе я сажусь и затем медленно ложусь.
И мне делается сразу хорошо, мне ничего больше не надо.
Но уж чья-то рука теребит меня за плечо, и я слышу голос Степанова:
— Арсений, что ты?.. Арсений!.. Вставай!..
— Идите… Я не могу больше!..
— Врешь, можешь! — яростно кричит Степанов. — Вставай!.. Кореец говорит, что скоро будет фанза.
Постанывая, я встаю и, спотыкаясь, как пьяный, следую дальше. Алее уже разогрелся солнцем. Совсем тепло, даже жарко. И мне становится легче, — может быть, за те несколько минут, что я обессиленно провел на мшистом ложе под деревом, наступил перелом лихорадки, я осилил болезнь.