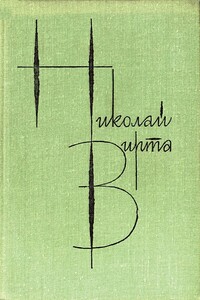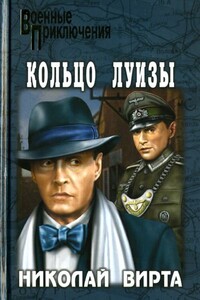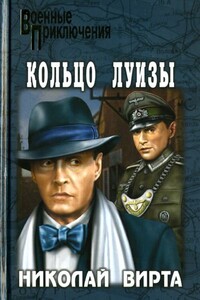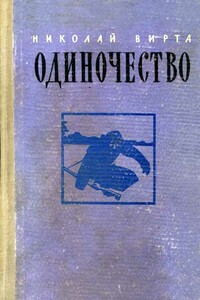«В конце концов что же дальше?» — встал перед Сторожевым грозный вопрос.
И понял он, что сейчас же надо ответить самому себе, потому что завтра или через неделю, если голод не свалит раньше, его пристрелят в безлюдном поле.
Из черного круглого отверстия выскочит пучок ослепительного пламени — и все!
«Не лучше ль самому прикончить скитанья, поднять револьвер к виску и нажать собачку?»
«… Но это ли расчет с жизнью? Неужто уйти из нее, не узнав, что же там, за чертой, в другом мире, в лагере победивших: царит ли спокойная уверенность, или еще ждут удара?»
«… Может быть, там найду друзей — не все же отвернулись от меня, продались?»
«Нет, — думал Сторожев, — кто держался за землю, за власть над людьми, того не скоро сломишь. Знаю я своих приятелей, знаю, каковы они — один в одного волки… Поговорить бы с ними по душам, узнать, чем дышат, чего ждут, о чем думы думают, что делать хотят… Неужто покорились?»
И вдруг он вспомнил Пантелея и слова его: «Сердце и у нас горит, Петра, да смирились!»
Сторожев засмеялся.
«Хитрый старый пес! В лисью шкуру, вишь ты, влез!»
И ему стало жаль, что не взял он у Пантелея хлеб да еще предателем его обозвал.
«Выходит, у Пантелея тонкая линия, — думал Сторожев. — А может, оно и умно; может, вернее ихний расчет. Может быть, и мне шкуру сменить?»
«Ладно, — решил он, — там увидим, что делать, кем прикинуться: зайцем или лисой…»
«А может быть, там узнаю, что где-то близко собираются новые силы… Убили Антонова — растут другие вожди, и им суждено готовить сокрушительный бой… Может быть, обман эта тишина? Может быть, ждут люди призывных кличей, храбрых людей вроде меня?..»
«Так, стало быть, что же: сдаться с оружием в руках? Идти вымолить прощение, сказать: я пришел голодный, делайте, что хотите, дайте мне ломоть хлеба и кусок жизни?..»
«Так, стало быть, что же: сдаться или ждать?.. Чего? Чего ждать? Впереди — ночь, потом голодный день, десятки их, осень, дожди, снег… смерть… Да, смерть. Смерть — так или иначе. Но убить себя можно всегда. Не лучше ли умереть сытым, прижав к груди детей, жену, Митьку?..
Он не смерти боялся. Его пугала встреча с братьями, с Сергеем в особенности. Почему? Этого Сторожев не мог понять. Может быть, потому, что оправдались слова Сергея и вот приходится ломать себя? Облик Матроса вдруг вырос в глазах Сторожева: это был не просто брат, то был человек другой веры, других убеждений — фигура Сергея стала для него символической. В ней он видел мир, который задался целью свалить его, Петра Ивановича, уничтожить его силу, могущество, слово мое, на котором держался он, Сторожев, тысячи, десятки тысяч сторожевых. За этой фигурой Петр Иванович видел народ, который взял землю у Лебяжьего; бедноту, которая будет пахать его землю; людей, которые ищут его в кустах, ждут его смерти, стерегут, стреляют в него, — весь мир, ненавидящий его… И все это воплощалось для Сторожева в исполинской фигуре брата Сергея, поднявшего народ, села, друзей, сломившего силу и дух его, Петра Ивановича.
«Куда бежать от Сергея? Не убежать! Так что же делать? Бог! Где же ты? Научи, куда податься, где спрятаться от людей, от братьев?»
Но поле было пустынно, и молчало небо, и бог не отвечал Сторожеву.
Петр Иванович заснул, проснулся и сразу решил: сдаться.
«Сдаться, сдаться, но прийти в ревком сутки спустя после конца объявленного срока».
«В воскресенье, а не в субботу приду я в Дворики. Все равно за день с больной ногой до села не дойти. Да и пусть знают, не боюсь я их суда».
«Меня расстреляют, — думал он, — но расстреляют сытым. Я увижу семью, людей. А может быть, и помилуют, — мелькнула мысль. — Ну, да все равно!»
«Итак, — думалось Сторожеву, — прощай, земля под Лебяжьим озером! Прощай, Александр Степанович! Слабый ты был человек, обманул ты нас, но пусть земля будет тебе пухом… Как и мне — завтра, послезавтра, скоро…»
В воскресенье к вечеру, почистившись и умывшись в болоте, Сторожев заковылял к селу.