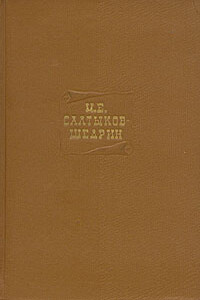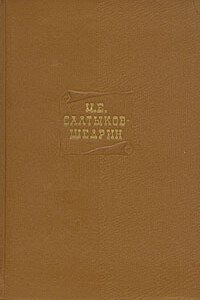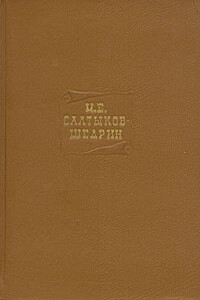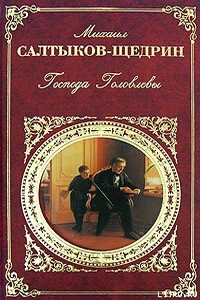Что касается до соловья, то он на жизненные невзгоды пожаловаться не мог. Пел он искони так сладко, что не только сосны стоеросовые, но и московские гостинодворцы, слушая его, умилялись. Весь мир его любил, весь мир, притаив дыхание, заслушивался, как он, забравшись в древесную чащу, сладкими песнями захлебывался. Но он был сладострастен и славолюбив выше всякой меры. Мало было ему вольной песней по лесу греметь, мало огорченные сердца гармонией звуков напоять… Думалось: орел ему на шею ожерелье из муравьиных яиц повесит, всю грудь живыми тараканами изукрасит, а орлица будет тайные свидания при луне назначать…
Словом сказать, пристали все три птицы к соколу: «Доложи да доложи!»
Выслушал орел соколиный доклад о необходимости водворения наук и искусств и не сразу понял. Сидит себе да цыркает, да когтями играет, а глаза у него, словно точеные камешки, глянцем на солнце отливают. Никогда он ни одной газеты не видывал; ни Бабой-Ягой, ни ведьмами не интересовался, а об соловье только одно слыхал: что эта птица — малая, не сто́ит из-за ее клюв марать.
— Ты, поди, не знаешь, что и Бонапарт-то умер? — спросил сокол.
— Какой такой Бонапарт?
— То-то вот. А знать об этом не худо. Ужо гости приедут, разговаривать будут. Скажут: «При Бонапарте это было», — а ты будешь глазами хлопать. Не хорошо.
Призвали на совет сову, — и та подтвердила, что надо науки и искусства в дворнях заводить, потому что при них и орлам занятнее живется, да и со стороны посмотреть не зазорно. Ученье — свет, а неученье — тьма. Спать-то да жрать всякий умеет, а вот поди разреши задачу: «Летело стадо гусей» — ан дома не скажешься. Умные-то помещики, бывало, за битого двух небитых давали, — значит, пользу в том видели. Вон чижик: только и науки у него, что ведерко с водой таскать умеет, а какие деньги за этакого-то платят!
— Я в темноте видеть могу, так меня за это мудрой прозвали, а ты и на солнце по целым часам не смигнувши глядишь, а про тебя говорят: «Ловок орел, а простофиля».
— Что ж, я не прочь от наук! — цыркнул орел.
Сказано — сделано. На другой же день у орла в дворне начался «золотой век». Скворцы разучивали гимн «Науки юношей питают»>*, коростели и гагары на трубах сыгрывались, попугаи — новые кунштюки выдумывали. С ворон определили новый налог, под названием «просветительного»; для молодых соколят и ястребят устроили кадетские корпуса; для сов, филинов и сычей — академию де сиянс, да кстати уж и воронятам купили по экземпляру азбуки-копейки. И, в заключение, самого старого скворца определили стихотворцем, под именем Василия Кирилыча Тредьяковского, и отдали ему приказ, чтоб на завтра же был готов к состязанию с соловьем.
И вот вожделенный день наступил. Поставили пред лицо орла новобранцев и велели им хвастаться.
Самый большой успех достался на долю снегиря. Вместо приветствия он прочитал фельетон, да такой легкий, что даже орлу показалось, что он понимает. Говорил снегирь, что надо жить припеваючи, а орел подтвердил: «Имянно!» Говорил, что была бы у него розничная продажа хорошая,>* а до прочего ни до чего ему дела нет, а орел подтвердил: «Имянно!» Говорил, что холопское житье лучше барского, что у барина заботушки много, а холопу за барином горюшка нет, а орел подтвердил: «Имянно!» Говорил, что когда у него совесть была, то он без штанов ходил, а теперь, как совести ни капельки не осталось, он разом по две пары штанов надевает, — а орел подтвердил: «Имянно!» Наконец снегирь надоел.
— Следующий! — цыркнул орел.
Дятел начал с того, что генеалогию орла от солнца повел, а орел с своей стороны подтвердил: «И я в этом роде от папеньки слышал». «Было у солнца, — говорил дятел, — трое детей: дочь Акула да два сына: Лев да Орел. Акула была распутная — ее за это отец в морские пучины заточил; сын Лев от отца отшатнулся — его отец владыкою над пустыней сделал; а Орёлко был сын почтительный, отец его поближе к себе пристроил — воздушные пространства ему во владенье отвел».
Но не успел дятел даже введение к своему исследованию продолбить, как уже орел в нетерпеньи кричал:
— Следующий! следующий!