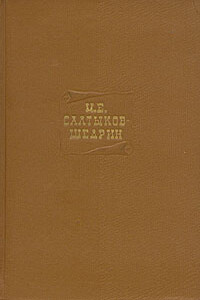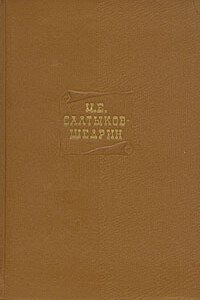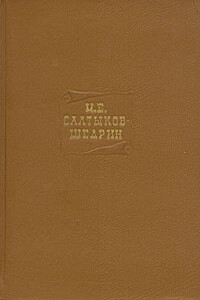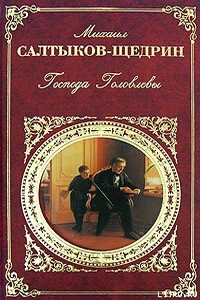— А вы бы не всяко лыко в строку, атаманы-молодцы! — крикнул он с вышки каланчи, — пошпыняли друг дружку — и будет! Прочее можно и простить!
В третий раз ворота съезжего дома заскрипели, и в третий раз обильная струя воды окатила расходившихся вечевых людей.
Хоронили Ивана Рыжего. Четыре мужика, с белыми новина́ми через плечо, через весь город несли к кладбищу сосновую домовину, в которой лежала жертва фантастического пошехонского отрезвления. Сначала за гробом шла только молодая вдова Рыжего с сиротами, но по мере того, как погребальное шествие подвигалось к центру города, толпа за гробом росла и густела. Рыжий женился всего пять лет тому назад, но имел уже четырех детей и был в семье единственный добытчик. Вдова его, красивая и кроткая женщина, в одночасье потеряла и мужа, и кормильца. Она усиливалась не плакать, но слезы сами собой лились из ее глаз; она сдерживала рыдания, но тяжкие, задушенные вопли сами собой вырывались у ней из груди. Она, очевидно, изнемогала от горя и боли, но так как ноша̀тые шли шибко, то и она спешила за ними, спотыкаясь и неся в одной руке полуторагодового ребенка, а другою рукой волоча за руку трехлетнюю девочку, которая с трудом поспевала за нею (грудной ребенок оставлен был дома под надзором старшей сестренки).
Зрелище было необыкновенно унылое и само по себе, и по обстановке. Осеннее небо, отягченное серыми облаками, так низко опустилось над городом, что, казалось, собиралось его задавить. Из облаков сеялся мелкий, но спорый дождь; навстречу шествию дул холодный ветер, который крутил и захлестывал старенький покров, лежавший на домовине. Толпа шла за гробом угрюмая и сосредоточенно-безмолвная. Только «особливо отмеченные» люди не присоединились к кортежу, но и они выходили из домов и набожно крестились. Мазилка, с своей стороны, почтил память умершего тем, что вышел на площадь во главе пожарных и сделал шествию под козырек.
Сознавала ли толпа в эти скорбные минуты, что смерть Рыжего дело ее рук, анализировала ли она этот факт, мелькал ли перед нею призрак потрясенной совести — для нее самой эти вопросы были загадкой. Скорее всего, она чувствовала себя под гнетом безотчетной и безысходной тоски, которая захватила ее всю, со всех сторон, которая истребила в ней мысль, забила воображение. Вчера, под наитием тоски, температура ее поднялась до истерического бешенства; сегодня то же самое наитие разрешилось упадком духа, унынием, бессилием. И что всего важнее, толпа даже не искала в самой себе помощи против удручающего ее чувства, а только беспокойно озиралась, как будто желая засвидетельствовать, что ее насквозь пронизала какая-то безымянная боль.
Когда шествие достигло кладбища, церковная ограда едва могла вместить толпу. День был будний, и потому обедни не пели; гроб прямо поставили у края свежевырытой могилы. Началось отпевание, и когда клир запел «Со святыми упокой» — вся толпа, словно послушное эхо, повторяла за клиром щемящий душу напев. Во многих местах раздались истерические рыдания и крики, которые вконец истерзали сердца. Что-то громадное вдруг поднялось от земли вокруг этого бедного гроба, словно сама земля вопияла о ниспослании неведомого чуда…
И чудо совершилось: незаметное существование заурядного пошехонского обывателя нашло для себя апофеоз — в форме трупа.
Наконец замолк последний звук, и толпа медленно сплыла с кладбища…