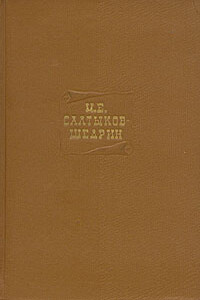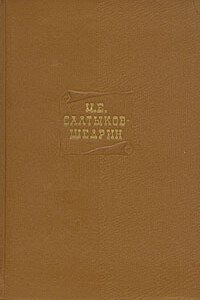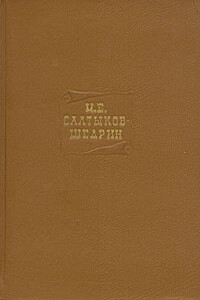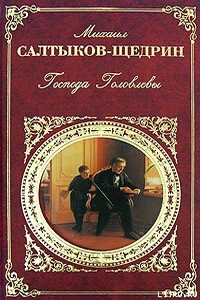Крамольников все больше и больше возвышал голос, а слушатели его все больше и больше жались и озирались по сторонам, испытывая сквозь открытые двери пространство, наполненное пестрыми кучками завсегдатаев. Некоторые из слушателей даже заносили ноги с намерением, при первом случае, улепетнуть.
— Почему вы сами, господа, — не унимался Крамольников, — еще так недавно с охотой вступали в собеседование по поводу самых горячих вопросов жизни, а теперь вы не только уклоняетесь от подобных вопросов, но прямо стараетесь заглушить в себе эту потребность разговорами, человеческому естеству несвойственными? Не потому ли, что прежде вы чувствовали в сердцах ваших движение совести, а теперь — чувствуете только постыдные порывы самосохранения? Затем позвольте еще один нескромный вопрос…
— Оставьте, Крамольников! — раздалось несколько голосов, — положительно вы делаетесь невозможны!
— Кто? я невозможен? — уже полным голосом возопил Крамольников, — я, который довел свои требования до минимума? я, который, ввиду суровой действительности, добровольно отказался от заветнейших мечтаний жизни и подчинил их представлениям возможного, доступного и благовременного? я, который, подобно алчущему еленю, искал чистых струй для утоления угнетавшей меня жажды и вместо того удовлетворял ее словами: «Подождите! потерпите!?», я, который, в надежде славы и добра,>* с восхищением повторял: «Наше время не время широких задач?!?», я, который целым рядом передовиц доказывал, что на первый раз мы обязываемся довольствоваться щелкой… с тем, разумеется, чтоб щелка, расширяясь в строгой постепенности, образовала со временем соответствующее отверстие?! Я невозможен? я?!?!
Он кричал так громко, что в дверях уже показалось несколько ябеднических голов. В рядах либрпансёров обнаружилось серьезное беспокойство, чуть не смятение, и ноги их решительнее прежнего начали заноситься по направлению к выходу. Заметив это движение, Крамольников простер руки, как бы удерживая беглецов. В этой позе он напоминал собой капельмейстера, который начал назначенный в программе Concertstück[17] и уже не может не довести его до конца. Всецело поглощенный горькими впечатлениями дня, он утратил всякое представление о времени и месте. Вперив глаза в пространство, он, казалось, отыскал в нем какое-то лучезарное мелькание, которое заставило его позабыть и о слушателях, и об инстинктах самосохранения, заставлявших этих слушателей смотреть на всякое «проявление» или «оказательство», как на скандал, который сам по себе, помимо злостных комментариев, может запутать и обвиноватить целую массу совсем неприкосновенных людей.
— Я каюсь! — бичевал он сам себя, — я был малодушен! Мало того: я был… постыден! Я изменил большим убеждениям и примирился с малыми… это нечестно! Вместо того, чтоб идти широким вольным путем, я предпочел окольные тропинки; вместо того, чтобы вступить на торжище жизни воротами, я удовольствовался заглядыванием в щелку… как раб! Я думал, что это знаменует мудрость, а на поверку вышло, что это была громадная, непоправимая глупость! В одно прекрасное утро щелка исчезла, и я остался безо всего! Я наказан жестоко, но заслуженно! Ибо я был не только постыден, но и глуп. Глуп — вот что больнее всего! Постыдность сама по себе может служить даже залогом успеха; глупость — может служить залогом только бессрочного оплевания! Постыдному человеку только при очень благоприятных условиях могут сказать в глаза: «Ты постыден!» Глупому человеку при всяких условиях, благовременно и безвременно, говорят: «Дурак! дурак! дурак!» Вот именно таким дураком я сознаю себя…
Он остановился, отыскал чей-то до половины наполненный стакан пива, залпом его выпил и продолжал, по-прежнему вперяя глаза в пространство:
— Тем не менее мне сдается, что как ни обидна глупость, по при известной обстановке она может служить смягчающим обстоятельством. «Постыден, но без разумения» — такой вердикт еще можно вынести! Но ежели вердикт гласит кратко: «Постыден!» — и только по неизреченному милосердию судей не прибавляет: «с предварительно обдуманным намерением» — такого страшного вердикта положительно нельзя вынести! И хотя я никого прямо не называю, к кому мог бы быть применен подобный жестокий вердикт, но все-таки приглашаю вас обдумать мои слова, господа! К сожалению, многие из вас думают, что можно до такой степени умалиться, стушеваться, исчезнуть, что самая суровая действительность не выдержит и поступится хоть забвением… Тщетная надежда, государи мои! Уступки и забвения свойственны явлениям нарождающимся, неокрепшим и не уверенным в своем будущем, а не действительности, имеющей за собой многовековую историю. Действительность есть действительность, и, в силу своей общепризнанности, в силу своего исконного торжества, она никогда и ничем не поступается и никогда ничего не забывает. Она вполне последовательно выполняет свою задачу, то есть подчиняет себе все, находящееся в районе ее кругозора, фасонирует