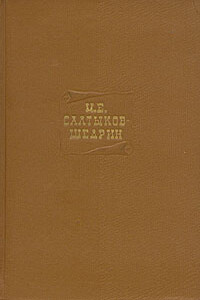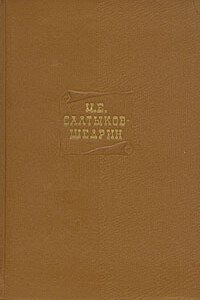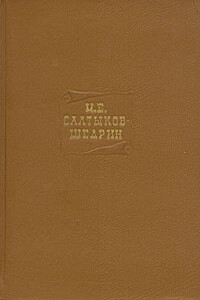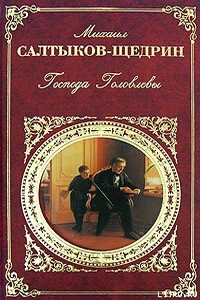Том 15. Книга 2. Пошехонские рассказы - страница 120
Несмотря, однако ж, на это организованное мучительство, евреи живут. Какая загадка таится за этим фактом — это вопрос трудный. Одни объясняют еврейскую живучесть надеждой на отмщение, другие — мудростью, третьи — просто привычкой. Но кажется, что главную роль тут играет тот общечеловеческий закон самосохранения, в силу которого племя, однажды сознавшее себя племенем, никогда добровольно не налагает на себя рук.
Как бы то ни было, но уничтожить силу предания или даже ослабить ее — задача настолько сложная, что даже люди очень убежденные отступают перед нею. Предание наслоилось веками, и каждое новое наслоение прибавляло к нему новую жестокую черту. Да и кто всего упорнее хранит эти предания? — их хранит толпа, которая сама насквозь пропитана злосчастием и в отношении которой всякий укор был бы несправедливостью и всякое решительное воздействие — делом в высшей степени щекотливым. Даже поднятие общего уровня образованности, как это показывает современное антисемитское движение в Германии, не приносит в этом вопросе осязательных улучшений, потому что до сих пор мы были свидетелями только относительного поднятия этого уровня, которое не обладает достаточной силой для водворения принципа абсолютного равноправия. Следовательно, чтобы упразднить предание, необходимо, чтобы человечество окончательно очеловечилось. А когда это произойдет?
Перспектива бессрочная и тем более безнадежная, что в союзе с преданием против еврейского племени действуют и несознанные капризы расовых темпераментов. Эти капризы, переходя из поколения в поколение, в свою очередь образуют предание, столь же компактное и не менее преисполненное всякого рода баснословий, как и изукрашенная веками легенда о несмываемом еврейском клейме.
И образ жизни еврея, и внешняя его складка, его манера говорить, ходить, одеваться — все дает пищу для неосмысленной досады, которая проявляет себя тем беспрепятственнее, что выражение ее почти всегда сопровождается безнаказанностью. Никто так мастерски не боится, как еврей, никто не создал для себя такого странного внешнего облика. Еврей самый солидный напоминает внешним своим видом подростка, путающегося в отцовских штанах. Для темной массы этого вполне достаточно, чтобы видеть в еврее всегда готовый источник потех и издевок. Никому нет дела до причин, породивших «странности», ибо в глазах чересчур уж живо мечется грубый факт, который заслоняет и проклятое прошлое, и презренную обстановку настоящего. Смешной ламбсердак, нелепые пейсы, заячья торопливость, ни на минуту не дающая еврею усидеть на месте, — чего еще нужно? Еврей и ходит не так, как люди, и говорит не так, как люди, и смотрит не так, как люди. От еврея — пахнет; еврей не смотрит, а глаза у него бегают; он не живет, а блудит. А как смешно и даже гнусно он шепелявит!
— Что, еврей, губами мнешь?
— Дурака шашу́!
То ли дело Дерунов с Колупаевым! Никогда они не скажут: «шашу», а прямо отчеканят: «сосу дурака» — и шабаш. И правильно, и для потехи резонов нет: слушай и трепещи!
Давно ли власть имеющие лица стригли у евреев пейсы и снимали с них ламбсердаки? Давно ли, как лакомство, выслушивались рассказы о веселонравных военных людях, ездивших на евреях и верхом, и в экипажах, занимавшихся травлей их и не знавших более высокого наслаждения, как подстеречь еврея с каким-нибудь членовредительным сюрпризом и потом покатываться от уморы при виде смешного ужаса, который являлся естественным последствием сюрприза. И что же! разве это прошлое так и кануло в вечность? — нет, оно только видоизменило формы, а сущность передало неприкосновенною, так что в настоящее время пропаганда еврейской травли едва ли не идет шире и глубже, нежели когда-либо.