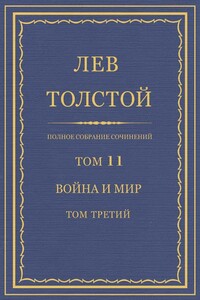Зовёт жителя пред лицо своё и говорит:
— Верю! Иди и проповедуй истину твою, но однако гляди в оба!
Пошёл житель по базарам, по ярмаркам, по большим городам, по маленьким и везде возглашает:
— Вы чего делаете?
Видят люди — личность, располагающая к доверию и кротости необыкновенной, сознаются пред ним, кто в чём виноват, и даже заветные мечты открывают: один — как бы украсть безнаказанно, другой — как бы надуть, третьему — как бы оклеветать кого-нибудь, а все вместе — как люди исконно русские — желают уклониться от всех повинностей пред жизнью и обязанности забыть.
Он им и говорит:
— А вы — бросьте всё! Потому сказано: «Всякое существование есть страдание, но в страдание оно обращается благодаря желаниям, следовательно, чтобы уничтожить страдание — надо уничтожить желания». Вот! Перестанемте желать, и всё само собою уничтожится — ей-богу!
Люди, конечно, рады: и правильно и просто. Сейчас же, где кто стоял, там и лёг. Свободно стало, тихо…
Долго ли, коротко ли, но только замечает Игемон, что уж очень смиренно вокруг и как будто жутко даже, но — храбрится.
«Притворились, шельмы!»
Одни насекомые, продолжая исполнять свои природные обязанности, неестественно размножаются, становясь всё более дерзкими в поступках своих.
«Однако — какая безглагольность!» — думает Игемон, ежась и почёсываясь всюду.
Зовёт услужающего кавалера из жителей.
— Ну-ка, освободи меня от лишних…
А тот ему:
— Не могу.
— Что-о?
— Никак не могу, потому хотя они и беспокоят, но — живые, а…
— А вот я тебя самого покойником сделаю!
— Воля ваша.
И так — во всём. Все единодушно говорят — воля ваша, а как он прикажет исполнить его волю — скука начинается смертная. Дворец Игемона разваливается, крысы его заполнили, едят дела и, отравляясь, издыхают. Сам Игемон всё глубже погружается в неделание, лежит на диване и мечтает о прошлом — хорошо тогда жилось!
Жители разнообразно сопротивлялись циркулярам, некоторых надо было смертию казнить, отсюда — поминки с блинами, с хорошим угощением! То там житель пытается что-нибудь сделать, надобно ехать и запрещать действие, отсюда — прогонные! Доложишь куда следует, что «во вверенном мне пространстве все жители искоренены», — отсюда наградные, и свежих жителей пришлют!
Мечтает Игемон о прошлом, а соседи, Игемоны других племён, живут себе, как жили, на своих основах, жители у них сопротивляются друг другу кто чем может и где надо, шум у них, бестолочь, движение всякое, а — ничего, и полезно им, и вообще — интересно.
И вдруг догадался Игемон:
«Батюшки! А ведь подкузьмил меня житель-то!»
Вскочил, побежал по своей стране, толкает всех, треплет, приказывает:
— Встань, проснись, подымись! Хоть бы что!
Он их за шиворот, а шиворот сгнил и не держит.
— Черти! — кричит Игемон в полном беспокойстве. — Что вы? Поглядите на соседей-то!.. Даже вон Китай…
Молчат жители, прильнув к земле. «Господи! — затосковал Игемон. — Что делать?» И пошёл на обман: наклонится к жителю да в ухо ему и шепчет:
— Эй, гражданин! Отечество в опасности, ей-богу, вот те крест — в серьёзнейшей опасности! Вставай — надобно сопротивляться… Слыхать, что будет разрешена всякая самодеятельность… гражданин!
А гражданин, истлевая, бормочет:
— От-течество моё в боге…
Другие же просто молчат, как обиженные покойники.
— Фаталисты окаянные! — кричит Игемон в отчаянии. — Подымайся! Разрешено всякое сопротивление…
Один какой-то бывший весельчак и мордобоец приподнялся несколько, поглядел и говорит:
— А чему сопротивляться? Вовсе и нет ничего…
— Да насекомые же…
— Мы к ним привыкли!
Окончательно исказился разум Игемонов, встал он в пупе своей земли и орёт истошным голосом:
— Всё разрешаю, батюшки! Спасайся! Делай! Всё разрешаю! Ешь друг друга!
Тишина и покой отрадный.
Видит Игемон — кончено дело!
Зарыдал, облился горючими слезами, волосья на себе рвёт, взывает:
— Жители! Милые! Что же теперь — самому мне, что ли, революцию-то делать? Опомнитесь, ведь исторически необходимо, национально неизбежно… Ведь не могу же я сам, один революцию делать, у меня даже и полиции для этого нету, насекомые всю сожрали…
А они только глазами хлопают и — хоть на кол их сажай — не никнут!