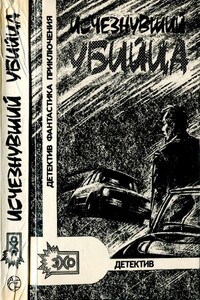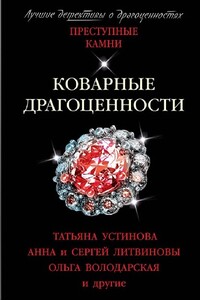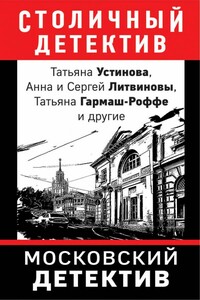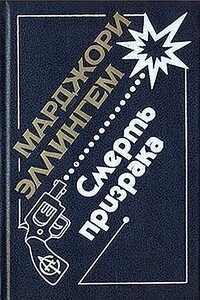— Так нельзя, — ответил он. — И потом, мы не сразу заподозрили насчет девушки. Мы только подумали, что он какой-то странный, потому что вегетарианец и все такое. Он здесь прожил две недели после того, как ее видели в последний раз. Тогда мы тихонько проскользнули в дом. Ордера у нас не было: о девушке никто не справлялся.
— И что вы нашли в доме? — спросил я.
— Большой напильник, — ответил Слаггер, — нож и топор, которым он, должно быть, порубил ее на части.
— Но он купил топор для того, чтобы рубить деревья, — напомнил я.
— Ну да, — ворчливо отозвался Слаггер.
— А зачем он их рубил?
— У моего начальства разные соображения на этот счет, — сказал он, — только оно ими не делится с кем попало.
Иными словами, поленья завели их в тупик.
— Так все-таки он разрубил девушку? — спросил я.
— Он сказал, что она уехала в Южную Америку, — ответил Слаггер. Очень честно с его стороны.
Не помню, что еще он мне рассказал. Слаггер, впрочем, добавил, что вся посуда в доме была вымыта и аккуратно сложена.
Со всем этим я вернулся к Линли поездом, который отходил на закате. Хотелось бы мне описать тихий летний вечер, который озарял своим светом мрачное бунгало, как бы благословляя его, но вам-то хочется узнать про убийство. Итак, я все рассказал Линли, хотя, по-моему, и пересказывать-то было нечего. Дело в том, что стоило мне о чем-нибудь позабыть, как он это замечал и вытаскивал из меня все подробности.
— Трудно угадать, что именно может оказаться важной уликой, — сказал он. — Кнопка, выметенная горничной, может отправить человека на виселицу.
Все это хорошо, но нужно быть последовательным, даже если ты обучался в Итоне и Харроу: каждый раз, когда я упоминал свою приправу, которая так или иначе положила начало этой истории (ведь Линли даже не узнал бы об этом, если бы не я), он замечал, что это ерунда и что нужно придерживаться главного. Разумеется, я говорил про «Нам-намо», потому что в тот день продал в Андже почти пятьдесят бутылок. Убийство подогревает воображение, и Стиджеровы две бутылки предоставили мне возможность, которую грех было упускать, но, разумеется, Линли-то было все равно.
Нельзя прочесть чужие мысли, нельзя влезть в чужую голову, поэтому все самые увлекательные вещи на свете невозможно пересказать. Но вот что, на мой взгляд, случилось с Линли тем вечером, когда мы с ним разговаривали (перед ужином, и во время еды, и потом, когда мы с ним курили у камина): он встретил преграду, которую не мог преодолеть. Дело было не в том, как узнать, куда Стиджер подевал труп, а в том, зачем он рубил дрова-каждый день в течение двух недель и даже, как выяснилось, заплатил хозяину двадцать пять фунтов за позволение срубить лиственницы. Это-то и поставило Линли в тупик. Что касается того, как Стиджер мог избавиться от трупа, то полиция отвергла все возможности и способы. Вы говорите: Стиджер его закопал, — полиция утверждает, что земля нетронута; вы говорите: Стиджер вынес его из дому, — полиция говорит, что он не покидал бунгало: вы говорите: Стиджер его сжег, — полисмены заявляют, что никто не слышал запаха горелого мяса, когда дым шел низом (а когда он шел верхом, они лезли на деревья, чтобы проверить). Я восхищался Линли; не нужно образование, чтобы оценить такой умище. Я не сомневался, что он способен разрешить эту загадку. Но когда я понял, что полицейские опережают его, а не наоборот, мне стало очень обидно.
Линли несколько раз спросил, бывал ли кто-нибудь в доме, выносил ли что-нибудь оттуда, но зацепиться было не за что. Затем, кажется, я намекнул, что так ничего не выйдет, а может, снова заговорил о «Нам-намо», только Линли довольно резко меня перебил.
— А что бы вы сделали, Смизерс? — спросил он. — Что бы вы сделали на его месте?
— Если бы я убил бедняжку Нэнси Элс? — уточнил я.
— Да.
— Даже представить не могу, чтоб я совершил такое, — ответил я.
Он вздохнул, как будто разочаровался во мне.
— Плохой из меня детектив, — сказал я.
Линли покачал головой. Потом он почти целый час задумчиво смотрел на огонь и наконец снова покачал головой. Тогда мы оба отправились спать.