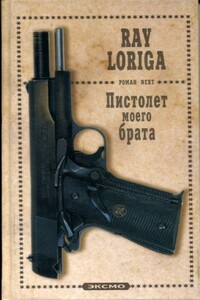Когда мы выходим, на улице похолодало.
Кто знает, как все сложится после Токио? Нет ничего странного в том, что человек, пришедший в себя посреди периода неожиданной радости, отказывается и от голосов прошлого, и от голосов будущего. Как мать семейства, которая запирает двери, чтобы никто не вошел, и окна, чтобы никто не вышел, с одинаковой тщательностью. Вот так и я проживаю эти дни возле нее: задвигаю вокруг нас все засовы. Закрываю двери всех комнат во всех гостиницах – как задраивают люки во всех отсеках корабля, в котором уже обнаружилась течь, но который, несмотря ни на что, пытается остаться на плаву.
О чем в это время думает она?
Не знаю. Она не говорит. А если и говорит, то шум моего страха оказывается, как обычно, слишком громким, и я ее не слышу.
Устала она или больна? Определенно что-то стало меняться, потому что ее дни кончаются рано, а потом она ложится в постель и говорит, что ей мало воздуха, и, естественно, всего воздуха с улицы оказывается недостаточно, и наши прогулки по Токио становятся все короче, и город постепенно сводится к ближайшим окрестностям. Кто знает? Может быть, посреди любви больше всего начинаешь бояться самой любви? Откуда же иначе берется все это недоверие к будущим городам?
Почему я так настойчиво думаю о ней как о слабом огоньке, который начинает гаснуть, если на самом деле она способна выставить меня из комнаты – из любой комнаты – пинками?
Любовь – это действительно шторм в воображении.
В любом случае, было бы нелишне пересмотреть как дозировку, так и качество моих стимуляторов, потому что теперь я не нахожу ответов на столько каверзных вопросов, и еще потому, что не могу отделаться от ощущения, что носки моих сапог давно уже наступают мне на пятки.
В конце концов я засыпаю с ней рядом, хотя ей, конечно, уже несколько часов снится бог весть что, но не менее опасное.
– Прояви уважение к дому!
– У нас нет дома.
Но ведь будет.
Мы в одной из «гостиниц любви» на холме. Ковер желтый, стены черные, обитые атласом. Возле кровати – зеркало. Пока мы трахались, я заметил, что она все время смотрела на себя. На меня она не смотрела. Только на собственное тело, продолжением которого, естественно, являлось мое – только так далеко она не смотрела. Она созерцала собственные движения с отчужденностью и интересом, с каким смотрят, как занимается сексом кто-то очень тебе близкий. Так смотрят, как занимается сексом собственная сестра.
Теперь она говорит о доме, который у нас будет. Со сворой собак, бегающих по саду,– ну хотя бы с парой собак, с озером напротив сада – потому что однажды мы прожили несколько недель в Берлине с видом на озеро, и она решила, что это самое лучшее, с высокими потолками и карнизами, с комнатой для сына, которого у нас нет. Пока она рассказывает, я прохожу по комнатам этого несуществующего дома с вполне реальным страхом.
Я спрашиваю, какого цвета стены, и она отвечает, что сейчас стены белые.
Когда я спрашиваю, где лежат мои вещи, она отвечает, что мои вещи еще не распакованы, хотя ее вещи уже несколько недель как разложены по местам.
В хрустальных вазах стоят цветы, над кроватями висят азербайджанские ковры.
Я не вижу ничего моего. Может быть, мои вещи все еще не распакованы, но также может быть, что я здесь не живу.
Мы оба голые. Она размышляет о нашем доме. Ей кажется, я не проявляю уважения к ее планам. Ей неизвестно, как осторожно я заглядываю во все комнаты, которые она описывает. Неизвестно, как старательно ищу место для себя. С каким недоверием всматриваюсь в уголки, куда не доходит свет ламп, как оглядываю собственные наши тени.
Пока мы одеваемся, я выхожу из дома, которого у нас нет, и возвращаюсь в комнату, в которой мы есть. Дом ни для кого. Одна из этих чудесных гостиничных комнат, что исчезают, едва ты захлопнешь дверь с другой стороны.
Мой отец в детстве играл в футбол прямо посреди улицы Алькала. Через каждые два-три гола там проезжала машина. Моя бабушка как-то пошла за молоком, и вдруг за углом сама Пасионария схватила ее за руку и втащила в гущу толпы. Моя бабушка всегда была за правых, но в тот раз со своим кувшином молока в руке она шествовала с достоинством первых коммунисток. А теперь я в Токио и я – человек-невидимка. Моя бабушка не протянула бы в Токио и недели. Мяч моего отца угодил бы в вертолет. История движется медленнее, чем наука.