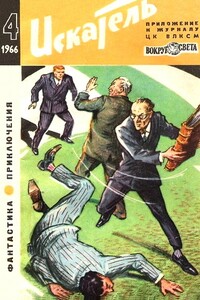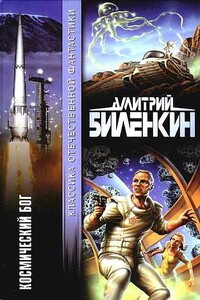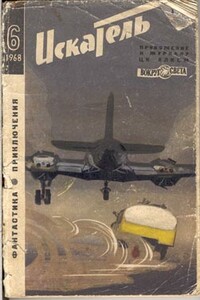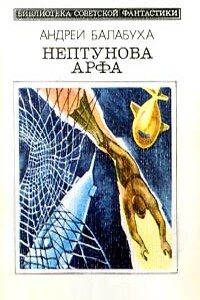Стало ясно, что здесь будет их дом, их палатка. Смолистая теплынь охватила их. Сквозь мохнатые ветви сосен сверкало море. Сэтти взглянул на девушку и увидел, что та стоит, закрыв глаза, и лицо ее словно спит. Он тоже закрыл глаза, плечи их коснулись друг друга. Они вздрогнули, как от удара тока, их руки сплелись. И как тогда, в море, все поплыло, исчезло, стало багровотемным, и только щемящий вкус губ, нетерпеливые толчки языка о язык, податливая мягкость земли и долгая, сладкая, сжигающая смерть в объятиях.
А когда все это наконец кончилось и иссякло, мир был так же хорош, как и прежде.
Лениво плыло облачко над ветвями, голова Ренаты покоилась у него на плече, иголки покалывали спину. Тонкий, падающий с неба звук разбудил мысли. Высоко в сияющей синеве купался крохотный остроклювый самолетик.
Сэтти узнал его даже на таком удалении, и в нем шевельнулась гордость. Он был здесь, на земле, но он был еще и там, это его мысль, воплощенная в стремительном стальном теле, неслась над планетой, побеждая ветер и расстояние.
- Мой ребенок... - выговорил он.
Девушка поняла и нахмурилась.
- Как жаль, что ты не можешь принадлежать только мне...
Но в голосе ее уже не было сожаления. Она давала ему свободу, ничего не прося взамен, с легкой грустью признавая за ним право быть самим собой.
Он благодарно прижал ее к себе.
- Ты мне нужна такая, какая ты есть. И не меняйся, пожалуйста.
- Я и не думаю меняться. Хочу от тебя четырех детей. Чтобы утирать им носы и покупать игрушки.
- И дом, - сказал он. - И сад. И чтобы каждый вечер приходили друзья. Нет, не каждый, а то я соскучусь по тебе.
- Будет, - сказала она. - А потом ты каждое утро будешь уходить в свое противное конструкторское бюро...
- А ты каждое утро будешь рисовать свои противные картины и злиться, когда не получается.
- Не буду я злиться. Злишься, когда есть талант.
- У тебя отличные рисунки. В них чувствуется душа вещей.
- Если так, то у тебя будет злая жена.
- У меня будет хорошая жена. Лучше всех.
- Всегда?
- Всегда.
Луч солнца перебрался на лицо. Если неплотно прикрыть веки, то мир за сеткой ресниц становится радужным и туманным. Покачиваются в вышине размытые вершины сосен, и ветер гудит в них, как в мачтах корабля. Мачты прочерчивают облака, планета бережно несет тебя на своей широкой, дружелюбной спине. Ему нет еще сорока, таких дней у него будет много.
Сэтти Товиус сидел, положив руки на колени, и односложно отвечал на вопросы профессора.
- Как вы себя чувствуете?
- Хорошо, спасибо.
- Вам известно, что вас вернули с того света?
- Да, спасибо.
- Ну и как он выглядит? - рискнул пошутить профессор.
Голова пациента слабо дернулась, на тощей шее напряглись жилы.
- Я выздоровел, господин профессор? - не поднимая глаз, ответил он вопросом на вопрос.
- О да! То есть, конечно, такая встряска отнюдь не прошла для вашего организма бесследно. Умеренность и еще раз умеренность! Не следует волноваться, пить, больше будьте на свежем воздухе. И никаких снотворных. Ни-ка-ких! После такого отравления даже две таблетки пекталана для вас убийственны. Надеюсь, однако, вы не намерены повторять опыт?
На этот раз лицо Сэтти Товиуса скривилось в улыбке, и профессору стало не по себе: казалось, что под пергаментной кожей нет ничего, кроме костей.
- Я был глупцом, профессор. Да, конечно, я был глупцом.
- Вот и прекрасно! - шумно обрадовался профессор. Теперь ему хотелось поскорей закончить этот разговор. - Ну, желаю вам всего лучшего... в новой жизни.
Он встал. Встал и Сэтти Товиус, неподвижно глядя себе под ноги.
- Послушайте, профессор...
- Да?
- Вы не могли бы... Эту ленту с биотоками или как там ее... В общем, запись... той жизни вы не могли бы дать мне в пользование?
Профессор покачал головой.
- Это невозможно.
- Но... почему?
- Во-первых, нужна специальная аппаратура, которая стоит сотни тысяч. Во-вторых, необходим строгий врачебный контроль. В-третьих - поймите, это главное, - нельзя жить искусственной жизнью.
- Почему?
- Потому что... Но это же ясно! Впрочем, достаточно и первых двух ограничений.