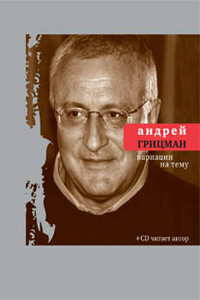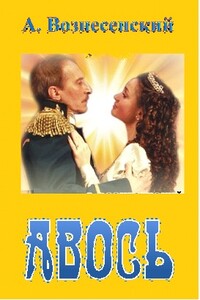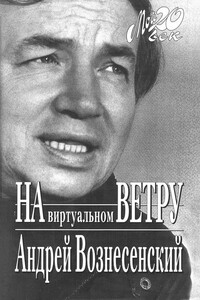Я сплавлю скважины замочные.
Клевещущему – исполать.
Все репутации подмочены.
Трещи,
трёхспальная кровать!
У, сплетники! У, их рассказы!
Люблю их царственные рты,
их уши,
точно унитазы,
непогрешимы и чисты.
И версии урчат отчаянно
в лабораториях ушей,
что кот на даче у Ошанина
сожрал соседских голубей,
что гражданина А. в редиске
накрыли с балериной Б…
Я жил тогда в Новосибирске
в блистанье сплетен о тебе.
Как пулемёты, телефоны
меня косили наповал.
И точно тенор – анемоны,
я анонимки получал.
Междугородные звонили.
Их голос, пахнущий ванилью,
шептал, что ты опять дуришь,
что твой поклонник толст и рыж,
что таешь, таешь льдышкой тонкой
в пожатье пышущих ручищ…
Я возвращался.
На Волхонке
лежали чёрные ручьи.
И всё оказывалось шуткой,
насквозь придуманной виной,
и ты запахивала шубку
и пахла снегом и весной.
Так ложь становится гарантией
твоей любви, твоей тоски…
Орите, милые, горланьте!..
Да здравствуют клеветники!
Смакуйте! Дёргайтесь от тика!
Но почему так страшно тихо?
Тебя не судят, не винят,
и телефоны не звонят…
1958
«Баллада? О точке?! О смертной пилюле?!»
Балда!
Вы забыли о пушкинской пуле!
Что ветры свистали, как в дыры кларнетов,
в пробитые головы лучших поэтов.
Стрелою пронзив самодурство и свинство,
к потомкам неслась траектория свиста!
И не было точки. А было – начало.
Мы в землю уходим, как в двери вокзала.
И точка тоннеля, как дуло, черна…
В бессмертье она?
Иль в безвестность она?…
Нет смерти. Нет точки. Есть путь пулевой —
вторая проекция той же прямой.
В природе по смете отсутствует точка.
Мы будем бессмертны. И это – точно!
1958
Пётр
Первый —
пот
первый…
не царский (от шубы,
от баньки с музыкой) —
а радостный,
грубый,
мужицкий!
От плотской забавы
гудела спина,
от плотницкой бабы,
пилы, колуна.
Аж в дуги сгибались
дубы топорищ!
Аж щепки вонзались
в Стамбул и Париж!
А он только крякал,
упруг и упрям,
расставивши краги,
как башенный кран.
А где-то в Гааге
духовный буян,
бродяга отпетый,
и нос точно клубень —
Петер?
Рубенс?!
А может, не Петер?
А может, не Рубенс?
Но жил среди петель
рубинов и рубищ,
где в страшных пучинах
восстаний и путчей
неслись капуцины,
как бочки с капустой.
Его обнажённые идеалы
бугрились, как стёганые одеяла.
Дух жил в стройном гранде,
как бюргер
обрюзгший,
и брюхо моталось
мохнатою
брюквой.
Женившись на внучке,
свихнувшись отчасти,
он уши топорщил,
как ручки от чашки.
Дымясь волосами, как будто над чаном,
он думал.
И всё это было началом,
началом, рождающим Савских и Саский…
Бьёт пот —
олимпийский,
торжественный,
царский!
Бьёт пот
(чтобы стать жемчугами Вирсавии).
Бьёт пот
(чтоб сверкать сквозь фонтаны Версаля).
Бьёт пот,
превращающий на века
художника – в бога, царя – в мужика!
Вас эта высокая влага кропила,
чело целовала и жгла, как крапива.
Вы были как боги – рабы ремесла!..
В прилипшей ковбойке
стою у стола.
1958
Друг, не пой мне песню про Сталина.
Эта песенка непростая.
Непроста усов седина.
То хрустальна, а то мутна.
Как плотина, усы блистали,
как присяга иным векам.
Партизаночка шла босая
к их сиянию по снегам.
Кто в них верил? И кто в них сгинул,
как иголка в седой копне?
Их разглаживали при гимне.
Их мочили в красном вине.
И торжественно над страною,
словно птица страшной красы,
плыли с красною бахромою
государственные усы…
Друг, не пой мне песню про Сталина.
Ты у гроба его не простаивал,
провожая – аж губы в кроввь —
роковую свою любовь.
1958
Кто мы – фишки или великие?
Гениальность в крови планеты.
Нету «физиков», нету «лириков» —
лилипуты или поэты!
Независимо от работы
нам, как оспа, привился век.
Ошарашивающее – «Кто ты?»
нас заносит, как велотрек.