— А что мне там делать?
— Объяснишь солдатам положение.
— Но ведь сам-то я…
— Вот наше воззвание. Прочтешь по дороге. Остальное — твое дело. Ты, Готтесман, отправляйся к пожарным.
В прихожей при свете газового фонаря я пробегаю глазами воззвание.
«…Обе партии постановили объединиться… Всевенгерская социалистическая партия… Классовая пролетарская армия… Военный союз с Российской советской республикой…»
— Победа! — вопит Готтесман у меня над ухом.
Перед казармой расхаживает часовой. Я предъявляю ему пропуск. Он отдает честь, открывает ворота и пропускает меня во двор.
На казарменном дворе темно, горят лишь несколько факелов.
При их неверном свете я с трудом различаю отдельные фигуры солдат, во множестве переполняющих просторный казарменный двор. Посредине на столе стоит Фельнер и, сильно жестикулируя, держит к солдатам речь. Позади него, на том же столе, застыл солдат на голову выше его и такого могучего сложения, что казенная зеленоватая гимнастерка чуть не лопается у него на груди. Над головой он держит в вытянутой руке факел и всем своим видом напоминает изваяние.
— И то, чего не пожелал нам дать Париж, мы получим от Москвы!
— Да здравствует Москва!.. Ура Москве!..
Из скошенного рта Фельнера речь льется плавно, его звонкий голос разносится по всему двору… Но что он такое говорит!.. Что он говорит?! Слова долетают до меня, но я не могу уловить их смысла. И человек, говорящий это, может мне быть товарищем! Мне кажется, будто я ослышался, я проталкиваюсь к самому столу. Нет, я не ослышался. Так, так, товарищ Фельнер…
Его взгляд падает на меня. Легким кивком он дает мне понять, что узнал меня. Теперь его голос еще громче разносится по двору:
…Сила пролетариата… Единый класс — единая партия… По стопам русских товарищей…
Кровь вновь приливает у меня к голове — я опять счастлив. Солдатская молодежь разражается бурными восторженными криками. Солдатская молодежь все еще в королевской форме, но уже с красными повязками. Они охвачены восторгом, они — победители. Я тоже упоен счастьем, не различаю уже слов Фельнера, слышу только его голос. Все прекрасно. Мне хочется каждого обнять, всем крикнуть: «Победа!» И когда Фельнер оканчивает речь и я вскакиваю на стол на его место, я не нахожу никаких слов, кроме одного:
— Победа!
Солдаты подхватывают меня на руки.
— Победа!.. Победа!.. Ура!.. Да здравствует диктатура пролетариата!..
Когда шум на мгновенье утихает, солдат, стоящий на столе с факелом, зычным голосом кричит в полутьму:
— Товарищи, наша страна мала… Не больше плевка. И все же мы — бойцы за величайшее дело, и мы первые, — продолжает он кричать, размахивая факелом над головой, — первые пошли с русскими товарищами… Да, первые, самые первые!..
Из казарм мы вышли вместе с Фельнером. Мы давно знали друг друга в лицо, но говорить с ним привелось мне теперь впервые. Разговаривал он со мной очень дружелюбно, но я никак не мог отделаться от воспоминаний о том, как он во время ареста коммунистов не только требовал для них сурового наказания, но настаивал на удалении с фабрик всех рабочих, заподозренных в сочувствии коммунизму. А теперь мы шли с ним плечо к плечу, и он называл меня братом.
— Я вне себя от счастья, дорогой брат Ковач, что все произошло именно таким образом. Нет больше коммунистической партии, нет больше социал-демократической партии, братоубийственная война окончена, — есть лишь единая партия, единая социалистическая партия — и она владеет страной. Ужасна была эта борьба брата против брата, и теперь мы сможем, наконец, вкусить мира и отдохнуть.
— По-вашему, теперь будет мир?
— Ну, нас, понятно, ожидает небольшая внешняя война, но это уже дело армии, и русских товарищей. Ведь русские уже в пределах Венгрии…
— Пока что они в Галиции. По моим сведениям они уже перешли Карпаты.
В ратуше царило большое оживление. Беспрерывно приходили люди за распоряжениями, за справками, за пропусками. Ни на минуту не умолкали телефонные переговоры.
— Не хочешь ли соснуть, Петр? В соседней комнате есть диван.
— До сна ли!
И завтра день…
Рассветало, когда курьер принес нам первый приказ Совнаркома.


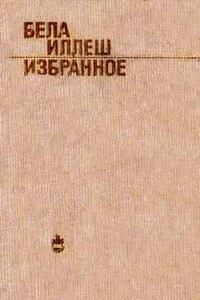



![Неоседланные лошади [Сборник рассказов]](/uploads/books/images/1c/1c16ca2920b359b5ad73cd59634fdad6e7101e6f.jpg)