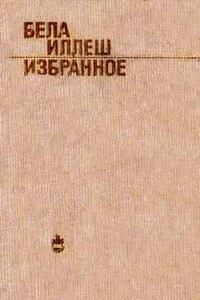Ольга достает из печки горшок с гречневой кашей. Ребенок, в честь Ленина названный Владимиром, неспокоен — его мучит первый зуб. Не переставая укачивать его, Ольга хлопочет у печки.
— Завари чай, Наташа.
На большой дощатый стол без скатерти ставится большая глиняная миска. Маленькая керосиновая коптилка светит скудно: Ольги, вполголоса баюкающей в углу младенца, не видно.
Забредший на огонек машинист с паровоза-карлика, Гонда, шумно разглагольствует, ругая буржуев. Он опрокинул лавку, на которой, кроме него, сидели Петр и Наташа. Кулак у него, как палица. После каждой фразы он оглушительно стучит им по столу, так что посуда дребезжит и подскакивает.
— Потише, Степа, — успокаивает его Тимко. — Не перевелись еще на свете жандармы.
— Испугался я их! У нас демократия — всяк может пить чай, коли есть на что. И стучать по столу тоже можно, покуда его еще судебный пристав не забрал.
У машиниста Гонды короткие черные щетинистые волосы и голубые глаза, чистые, как у грудного младенца. Он носит солдатские штаны и синюю рабочую блузу. О нем известно, что он читает газеты и даже книги. Бахвалится и шумит он нарочно, чтобы не считали «больно ученым».
— Подогрей-ка еще чайничек, Наташа.
С приходом старика Бочкая разговор переходит на серьезные темы.
— Заработная плата… организация… забастовка…
— Заработная плата… голод, рабочие лесопилки… узкоколейка… химическая фабрика…
— Венгерская крона… чешская крона… протухшая мука… долги… заработная плата… организация…
Бочкай — дровосек из Полены, одинокий старик: жена умерла, все три сына погибли на фронте. Сам Бочкай дважды сидел в тюрьме. В первый раз — еще в венгерские времена: нашли у него русский молитвенник. При чехах — за постоянные разговоры о том, что чешские «братцы» будут еще почище венгерских господ. Он — широкоплечий старик исполинского роста, с огромной головой. Ноги у него, по сравнению с длинным туловищем, непомерно короткие, а потому кажется, что он не ходит, а марширует по-военному. С воскресенья, со дня митинга, голова у него забинтована: менее твердая черепная коробка не выдержала бы удара, оставившего на затылке старика громадную шишку.
— В былые времена разве только барин мог наделать столько долгов, сколько я наделал сейчас, — говорит он, приправляя речь отборной руганью. — Четырнадцать часов в день работаю… Заберешь в заводской лавке муки, бобов немного, керосину да табаку — глянь, при получке не только гроша медного не получишь, а еще долг за неделю вырос. Поначалу еще считал, а потом рукой махнул: пускай господь-бог считает. Все одно: ему платить.
— Неужто вся Полена так живет?
— Ты спроси, одна ли Полена!.. А Свальява, а Домбоштелек, а Осса, а Гидвег, а Волоц? Деньги видишь разве только, когда на улице найдешь.
— Или когда от браконьерства малая толика перепадет. А, дядя Бочкай? — с улыбкой говорит Гонда.
— А что же, тоже работа, — смущенно возражает Бочкай, зардевшись, как молоденькая девушка. — Чем не работа? Очень даже тяжелая работа.
По уходе гостей обе женщины с ребенком отправились на кухню. Мужчины остались спать в комнате. Постелью им служила шуба, а покрываться они должны были другой шубой — шубой сына старика Бочкая, которую он принес для «обмеблировки» партийного секретариата.
Петру не хотелось спать. Долго сидели они на лавке, беседуя вполголоса, — только затушили лампу: керосин дорог, да и достать его нелегко.
— Как, чорт возьми, дошли вы до этакой жизни?
— Так же, как и другие. Сперва румынская оккупация… У-ух, и здорово же пороли!.. Потом — чехи. Те без дальних слов — в тюрьму, в Илаву. Пороть не пороли, а за шесть недель двоих насмерть ухлопали. А сколько народу «братцы» до крови избили — и не перечесть. Много эта маленькая страна перетерпела с четырнадцатого года…
Первый день начался неудачно. Тимко с женой с утра ушли на работу, а тут вдруг Наташа, взявшаяся хозяйничать, почувствовала себя плохо. Стала жаловаться на боль в голове и в сердце. Свернулась в комочек и плакала, как обиженный ребенок.
Проснулся и Владимир Тимко и тоже заплакал. Петр стоял в замешательстве, не зная, что делать. К счастью, на плач прибежала соседка, дородная женщина лет сорока, в юбке из солдатского сукна, домотканной рубахе и цветном платке, повязанном, как у молодух.