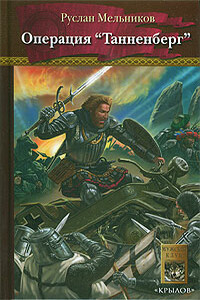– Из‑ра‑дец!
И вот тут‑то Бурцева перекрыло по‑настоящему. Да какое право имеет этот татарский прислужник обвинять его в израде‑измене.
– Это я‑то израдец?! Ты, русский витязь, якшаешься с бесерменами‑балвохвалами[29], а я, выходит, изменник?!
– Эти бесурмены – наши союзники! – вскипятился в свою очередь русич. – А такие израдцы, как ты, заразитися[30] за немецких бискупов[31], кои давно точат зуб на Русь православную!
– Кого это ты называешь союзниками?! Ты вообще в курсе насчет татаро‑монгольского ига?
– Иго?! – Русич захлопал глазами. – Какое‑такое иго?
– Хватит! – раздраженный выкрик прервал их перепалку. Кричали по‑татарски. Кричал Кхайду‑хан.
Василий обернулся к нему:
– Лучший кулачный боец непобедимых туменов – русский?
– Да, он с русских земель, – снизошел до ответа хан, – ибо мы, обитатели войлочных кибиток, не привыкли биться на кулаках. Зачем эта глупая забава воину, у которого есть оружие? А если уж драться без лука и сабли, то куда полезнее конная борьба на поясах. Сбросить в бою противника с седла, ухватив его за кушак, – разумнее, чем бить кулаком по прочному доспеху.
Бурцев притих: помнится, под Вроцлавом его именно так и свалили с Уроды. А ханская свита уже тянула сабли из ножен. Однако смертный приговор взбунтовавшемуся пленнику в ту ночь так и не прозвучал
– В чем дело, Димитрий?! – обратился Кхайду к сопернику Бурцева. – О чем ты спорил с пленником, одолевшим тебя в честной схватке?
«В честной»? Гм, понятие о чести здесь весьма растяжимо.
– Этот человека – с русская земеля, – коверкая татарские слова, ответил тот, кого назвали Димитрием. – Он браниться ручча[32] так же хорошо, как и я.
– Так ты русич? – Хан внимательно посмотрел на Бурцева.
– Не отрицаю, – пожал плечами он.
– И как же тебя зовут?
О, сам хан соизволил поинтересоваться именем полонянина. Знаковое событие. Но добрый ли то знак?
– На родине меня называют Василием, на землях Силезии кличут Вацлавом.
– Очень интересно! Сотник Бурангул принял тебя за поляка. Я – тоже… Подумать только, в улусах польских князей бродит образованный рус, знающего языки Востока и Запада.
– Я же говорил, хан, что много путешествую. А нам, мирным скитальцам, поневоле приходится учить наречия разных народов, чтобы не сгинуть на чужбине.
– Только вот дерешься ты совсем не как мирный скиталец, – заметил Кхайду‑хан. – И глаза не научился прятать, подобно беззащитным странникам. А в твоих глазах я вижу дух истинного воина. Тебе не место у костра полонян, русич. Твое место либо среди прославленных богатуров, либо среди мертвых. Такие люди, как ты, могут быть или очень полезными, или очень опасными. Ты опасен или полезен, Вацалав?
Елки‑палки, да ведь это шанс! Кто знает, может быть, в войске кочевников ему будет проще добраться до Аделаиды. Да и поквитаться с Конрадом Тюрингским и Казимиром Куявским – тоже.
– Тебе решать, непобедимый хан, – Бурцев склонил голову, как заправский царедворец. – Но знай: у меня есть основания ненавидеть крестоносцев и их польских приспешников. Именно поэтому я и оказался в землях Силезии.
– Что же стало причиной раздора между тобой и моими врагами?
– Невеста, – Бурцев солгал, не моргнув глазом. Ну, какая ему, на фиг, Аделаида невеста‑то!
– Что? – изменился в лице Кхайду.
– Моя возлюбленная… – голос его не дрогнул. Ведь это уже не было наглой ложью. Даже полуправдой не было: Бурцев давно понял, что влюблен в дочь Лешко Белого. – Моя возлюбленная, которую тевтоны и куявцы похитили для князя Казимира.
– Твою будущую жаным хатын[33] забрал хан Казимир из Куявского улуса?! – встрепенулся Кхайду. – Юзбаши Бурангул говорил, что воины с крестами и их союзники‑поляки везли с собой молодую хатын‑кыз[34]. Что ж, может быть… Может быть, ты говоришь правду, Вацалав. Любовь – сильное чувство, способное толкать даже мудрейшего мужа на глупости.
То ли это блик от углей ночного кострища, то ли воспоминание о чем‑то былом, бередящем душу? На жестком лице хана промелькнула тоска, свойственная скорее поэту, нежели воину. А этот Кхайду, оказывается, тот еще романтик!
– Вацалав! – Хан долго вглядывался в глаза Василию, пытаясь прочесть самые сокровенные мысли пленника. – Я готов поверить твоим словам и даже простить твое дерзкое нападение на мои осадные орудия под Вроцлавом. Я готов дать тебе оружие, чтобы впредь ты бился бок о бок с моими воинами против нашего общего врага. Но горе тебе, если ты обманешь мое доверие. Да будут свидетелями вечный Тенгри и всемогущая Этуген[35].