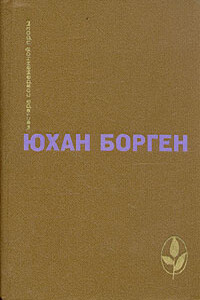- Парень уже забросил бы вам бумажку, если бы что пришло, - только и сказала она.
Это мы понимали, знали и то, что "парнем" она зовет мужа разговорчивого почтальона, повелителя велосипеда, но уж никак не супруги своей, Катерины; во всем мире ему был подвластен один велосипед, даже свой речевой поток он и то не мог удержать, когда, случалось, повстречаешься с ним на улице.
- Так что, уж если бы вам пришел денежный перевод...
Мы получили норвежскую газету. Я прочла в ней, что шесть картин из тех, что Вилфред послал на выставку, купили у нас на родине. Может, сам он уже давно знал об этом? "После блестящих отзывов..." - писала газета. Может, он и об этом тоже знал? Я сама распечатала бандероль с газетой, а Вилфред тогда был на пляже и болтал с рыбаками, все толковал о чем-то с этими грубыми, просоленными морским ветром парнями и старался выучиться их диковинному языку.
Я выбежала ему навстречу, встретила его на улице у гостиницы, мне не терпелось сказать: "Картины проданы, и отзывы о тебе самые, самые..."
Лицо его светилось покоем. Он шел от своих приятелей рыбаков, видно, долго толковал с ними на скупом, суровом их языке. На родине о нем говорили, что у него нет друзей, а тут выходило, будто все здешние жители - его друзья. Все льнули к нему, не только женщины. Нет, мужчины добивались его дружбы, и он радостно отдавал себя им на пляже, в погребке - всюду, я видела, как ему приятно...
- Картины...
Он не дал мне договорить. На виду у всех, прямо посреди улицы, он привлек меня к себе и расцеловал. Рыбачкам эти поцелуи были не по душе. Я знала, что они им не по душе. Он рассмеялся. Рыбачки по обе стороны улицы, чтобы не смущать нас, отступили к стенам домов. Он снова поцеловал меня. Я не смогла выговорить ни слова - про газету, про отзывы, про то, что кончились деньги: мы уже за месяц задолжали в гостинице. Я сказала, что он опоздал к обеду и хозяйка сердится. Рыбачки стояли вдоль узкой улочки у стен домов и все слышали. Я сказала то, что - я знала - придется им по душе. Все они недолюбливали хозяйку: родом она была не из здешних мест.
- К черту хозяйку! - засмеялся он; вот этот язык - веселый, лихой - был им понятен, они и сами были веселые и лихие, стоило им на миг вылезть из своей скорлупы.
"К черту хозяйку!" - повторили рыбачки и тоже рассмеялись. Они знали, что мы задолжали ей денег, все-то они знали. И про то, какие мы недотепы: кто станет купаться при сильном приливе, ведь разница в уровнях воды больше девяти метров! Отчего они смеялись, когда смеялся он? Отчего они любили его, а меня - нет? Снова я ощутила нелепую ревность. В тот же миг ревность сменилась отрадой. Что ж, пусть любят его, да, его пусть любят, а не женщину, которая вешается на шею полубогу...
Однажды он рассказал мне про свою учительницу, как он забавы ради доводил ее до белого каления, так что она готова была проглотить его живьем, он вообще многое рассказывал мне, все сплошь невинные вещи. Когда-то ему нравилась девушка, которая стояла в моторной лодке, подставляя солнцу лицо, радугой сверкала она в водяных брызгах. Он проиграл ее приятелю в карты. Сказал он об этом так: ей, мол, повезло. А про ту, другую, что скоро родит от него ребенка, он сказал: "Так уж она решила", и, значит, в проигрыше остался он? Но он рассказывал об этом весело, всегда и обо всем - весело. А я - в тот раз на улице - так ничего и не сказала ему про то, что кончились деньги и мы задолжали за квартиру и хозяйка при встрече со мной свирепо поджимает губы. Правда, его встречали, как миллионера. Зависть боролась во мне с материнской радостью за него...
А тут еще эта Катерина, с ее прачечной и знаменитой гладильней. Да, она была истинным художником. Немыслимые башни-чепцы в ее руках превращались в сказку, в торт из марципана. Она гордилась своим искусством. Нимало не кичась тем, что своей отвагой спасла человеку жизнь, она требовала, чтобы без конца восхищались ее крахмальными чепцами. Чепцы были повсюду - они стояли, лежали, висели, куда ни повернись, в ее просторной рабочей комнате с почтовым окошком, будто глазком, в который можно было подсмотреть всю эту роскошь.