Теология. Введение в богословские дисциплины - страница 36
На уровне «внутриличностном» востребованными являются те богословские дискурсы, которые касаются осмысления и решения проблем жизни самой православной церкви и которые снова будет удобно рассматривать в виде концентрических кругов. Самый внутренний из них — дискурс, обращенный к внутренней же духовной жизни каждого православного христианина. Сюда относится прежде всего то, что можно условно обозначить в качестве «богословия молитвы» и что в общем виде уже входило в содержание теотетики, в рамках которой каждый сознательный христианин может рассматриваться как «священнослужитель» [Лекция 8.1][196]. Второй концентрический круг составляют церковные отношения, главными из которых являются отношения пастырей и пасомых, и здесь богословские дискурсы отчасти совпадают с традиционными дисциплинами «пастырское богословие» и «гомилетика» (искусство проповеди), к которым приложимы несколько уточнений. Во-первых, вторая из них относится к первой не как параллельная линия, но как часть к целому. Во-вторых, вследствие того, что клирономия[197] как принципиальная позиция (не как психологическая установка) в богословской мысли XX века неуклонно и заслуженно преодолевалась (ср. концепция «апостолата мирян»), пастырское богословие необходимо должно балансироваться дискурсом типа «богословия для мирян». В-третьих, оба этих дискурса, как дальнейшие «применения» теотетики, не должны включать в себя то, что «остается» от основных богословских дисциплин (а опосредованно они связаны со всеми ними), но содержать именно актуальную для них проблематику, которая, с другой стороны, не должна совпадать с соответствующими «практическими советами» или «технологиями» (рекомендации по риторическому аспекту проповеди и т. д.). Наконец, круг, внешний по отношению к двум предшествовавшим, составят богословские дискурсы, обращенные к актуальным общецерковным проблемам, связанным, прежде всего, с обсуждаемыми реформами — официального церковного перевода Св. Писания, церковного календаря[198], богослужебного и канонического устава[199]. Соответственно и здесь речь должна идти о рассмотрении богословских именно аспектов соответствующих проблем, а не той «апелляции к традиции», которая, как было окончательно выяснено прот. Георгием Флоровским, сама по себе Апостольскому и Святоотеческому Преданию еще не соответствует [см. Лекция 10.3].
Уровню «семейных отношений» соответствует диалог единства православных поместных церквей с инославными христианскими конфессиями. Если «практические» задачи только что обозначенных богословских дискурсов связаны с улучшением положения дел в различных измерениях внутрицерковной жизни, то здесь они направлены на улучшение межхристианского взаимопонимания, плодотворного взаимообмена в опыте «домостроения» духовной жизни и, в конечном счете, к созиданию условий для преодоления разделения христиан, которое становится особо востребованным ввиду все более всестороннего и беззастенчивого наступления на христианский мир самых многообразных антихиристианских сил (как «видимых», так и «невидимых»). Рассматриваемые дискурсы отчасти перекрываются традиционной дисциплиной «сравнительное богословие», которая, однако, в настоящем виде в качестве отдельной дисциплины (иногда она считается, хотя и неоправданно, даже одной из основных) нуждается в значительных «ограничениях». Во-первых, с собственно теологической точки зрения она является «применением» экклезиологии как одного из направлений догматики [см. Лекция 6.2]. Во-вторых, ее основное содержание перекрывается изучением истории церкви под углом зрения «символогии» [см. Лекция 4.2, 3]. Имея, таким образом, все основания для перевода данного компаративистского дискурса в область «прикладного богословия», несмотря на огромную важность решаемых им «практических» задач, можно предположить, что наиболее правильным было бы «распространение» его предмета за границы «сравнительной догматики» в области сравнительно-исторической литургики, каноники, аскетики и мистики для всестороннего сопоставления разделившихся христианских конфессий под православным углом зрения. Понять все многообразие факторов, приведших христиан конца XX столетия к новому уровню разделений, и тенденцию к дальнейшей «атомизации», различать среди них показатели действительной эрозии и проявления «личных особенностей» отдельных конфессий, связанных с особенностями национально-культурными (персоналистическая христианская экклезиология никак не может считать безусловным идеалом «глобализацию» как таковую), и рассмотреть конкретные перспективные «точки сближения» христиан в рамках всех перечисленных факторов — таковы основные задачи современного сравнительного богословия. Его практическая результативность предполагает размежевание с обеими крайностями — как конфессионального релятивизма (при котором богословский дискурс может стать практически неотличимым от религиоведения), так и «фальшивого конфессионализма» (В.В. Болотов), при котором все «свое» хорошо по определению как «свое», а все «не-свое» рассматривается с «презумпцией виновности»
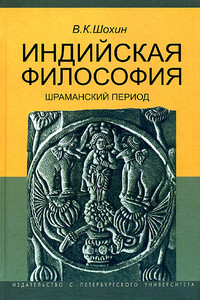
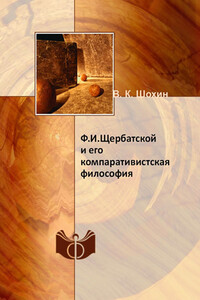
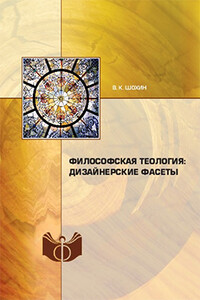
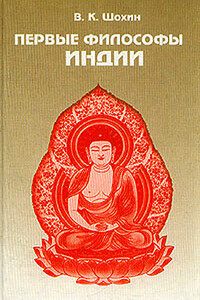
![Отечник проповедника [внутри перекрёстные ссылки гипертекстом!]](/uploads/books/images/9f/9fa3ae96fc4c7dc00a64113f6caf12f3692cdea6.jpg)

