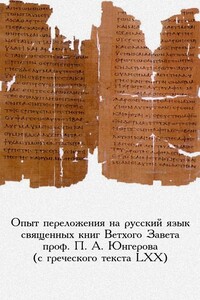Как известно, каббала придает значение каждой отдельной букве Торы. Существует немного столь же древних как Евангелие текстов, в которых бы с такой ясностью провозглашалась идея важности не только каждого закона и каждого слова, но именно и каждой буквы Торы: «Доколе не прейдет небо и земля, ни одна иота или ни одна черта не прейдет из закона, пока не исполнится все» (Мф 5.18).
Описанные в Евангелии чудеса также напоминают те чудеса, которые творили еврейские мистики. Так, превращение воды в вино или умножение хлебов и рыб, о которых рассказывается в Евангелии, сродни описанному в Гемаре созданию теленка рабби Акивой. Однако признаки Баал Шема можно усмотреть уже в тех повседневных врачеваниях, которые осуществлял Иисус.
Отмечая, что выражение «сын Божий» применялось прежде всего по отношению к целителям, Давид Флуссер сопоставляет Иисуса с другими целителями, описанными в Гемаре, прежде всего с рабби Ханиной.
Между тем по характеру своей целительной практики Иисус как раз существенно отличался от рабби Ханины. Рабби Ханина был молитвенник, он исцелял, обращаясь к Всевышнему. Иисус же очень часто обращался к самому человеку или к его недугу; он прикасался к больным, накладывал на них руки и т. п. Обвинения в знахарстве и колдовстве были в такой ситуации вполне закономерны.
В этом свете понятны многие евангельские полемики. «Фарисеи сказали: он изгоняет бесов не иначе, как силою вельзевула, князя бесовского. Но Иисус, зная помышления их, сказал им: «Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет… Если сатана сатану изгоняет, то он разделился сам с собою: как же устоит царство его?… Если же я Духом Божиим изгоняю бесов, то конечно достигло до вас Царствие Божие. Или, как может кто войти в дом сильного и расхитить вещи его, если прежде не свяжет сильного? И тогда расхитит дом его» (Мф 12.25-29)
Этой борьбой с темными силами пронизано по существу все Евангелие. Достаточно напомнить, что дар чудотворства Иисус обрел сразу после своего сорокадневного уединения в пустыне, т. е. после того, как он выстоял в дьявольских искушениях («связал сильного»).
Но это опять же подтверждает причастность Иисуса к каббалистической традиции. Ведь по существу иудаизм не отрицает, что практическая каббала родственна заклинанию духов. Например, рабби Абайе (Сангедрин 67а), сравнивая субботние запреты с запретами на колдовство, поясняет это сравнение тем, что как среди тех, так и среди других имеются «исходно разрешенные». При этом к числу такого «исходно разрешенного» вида колдовства он относит известный рассказ о создании мудрецами живых существ путем мистической перестановки букв. Это в свою очередь вынуждает Роша однозначно квалифицировать данный случай использования каббалистической мудрости как своего рода заклятие демонов.
Наконец, учение Иисуса отмечено тем же подвижническим и харизматическим духом, который был характерен для всех последующих мистических учений внутри иудаизма: и для средневекового германского хасидизма, и для хасидизма нового польско-украинского. Кроме того, уместно отметить, что во всех этих учениях вера явно или неявно противопоставляется Закону, который тем не менее не отрицается (как не отрицался он и Иисусом: «Сие надлежало делать и того не оставлять» Мф 23.23).
Имеется лишь один пункт, в котором Евангелие существенно отличается от аутентичных мистических еврейских течений, и это весть о воскресении. Эту весть следует признать сердцем христианства, его началом и концом. Как сказал апостол Павел: «Если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна» (1Кор 15.14).
Это существенный пункт. Возможно, для того чтобы стать Богом народов, недостаточно было оказаться первым каббалистом, возможно, для этого необходимо было бы еще и воскреснуть (не будем в данный момент выяснять как – в «культуре», в «религиозной парадигме» или в действительности).
Именно вестью о воскресении обязано Евангелие своей мировой славе. И это в то время, когда ни рабби Шимон бар Йохай, ни Иегуда а-Хасид, ни Баал Шем Тов не ставили перед собой цели воскреснуть раньше других, до наступления «последнего дня».