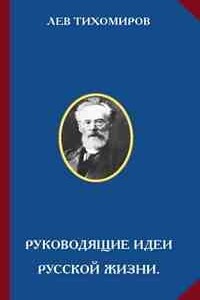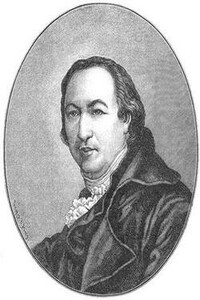Из других учителей с теплым чувством вспоминаю теперь Николая Ивановича Рещикова, учителя русского языка. Вспоминаю его тепло теперь, но в то время мы относились к нему с насмешкой. Это был единственный преподаватель у нас старой школы, быстро вымиравшей. Худенький, начисто обритый, всегда в чистеньком вицмундире, он был во многом смешон. Смешно было видеть, как эта маленькая фигурка усиливалась принять строгую позу. Смешно было слышать, когда Николай Иванович старался, как-то надуваясь, говорить басом, совершенно несвойственным его тонкому голоску: «Ступай в Камчатку* или: «А ты все молчи*. Ученикам нижних и средних классов он всегда говорил «ты», часто таскал за чуб или за ухо, и все эти расправы так не шли к его кроткому виду, что возбуждали не страх, а смех. А между тем он был очень добросовестный учитель, знал свой предмет, любил его, умел передать, так что мы учились у него и охотно, и успешно. Николай Иванович возбуждал у нас улыбку и тем, что был единственным учителем, любившим старые русские основы. Он был благочестив и сердечно благоговел перед царским принципом… Помню я сцену после кара-козовского покушения на жизнь Императора Александра II.
Мы сидели как раз на уроке Решикова. Вдруг отворяется дверь и быстро входит директор, Падрен де Карне. Громким голосом он обращается к классу: «Господа, пришла ужасная весть. Какой-то злодей покусился на священную жизнь Государя Императора. Но Провидение сохранило Императора невредимым. Господа, уроки прекращаются… Идем во храм возблагодарить Господа Бога…»
Шумной гурьбой высыпали мы из класса. Как помню, известие не произвело на нас никакого впечатления. А бедный Николай Иванович один только был поражен и горько заплакал… Эти слезы вызывали у нас лишь насмешливые улыбки.
Никаких выражений чувств, ни отрицательных, ни положительных, мы от других учителей не слыхали и не видели, и наше благодарение Бога вышло чисто формальным, даже без соблюдения какого-либо притворства. Вся гимназия, выстроенная по классам, под руководством учителей и с директором во главе промаршировала беспорядочно через весь город, по Строгановской и Воронцовской, до собора. Гимназисты болтали между собой, учителя их слегка умиротворяли. В соборе отслужен был молебен при полном невнимании воспитанников, а затем все разошлись по домам — играть и готовить уроки.
Я решительно не помню за все время обучения, чтобы хоть один из десятков наших учителей сказал нам хоть одно слово в защиту монархического принципа. Один только законоучитель отец Бершадский иногда проявлял антипатию к республике. Когда в классе начинали шуметь, он частенько покрикивал: «Тише! Что вы тут республику устроили!» Точно так же мы если слыхали критику католицизма, точнее, папизма, то не слыхали ни слова в защиту православия, за исключением того же отца Бершадского. Так называемое исполнение религиозных обязанностей ограничивалось молитвой перед учением, которую читал кто-нибудь из воспитанников, да в высокоторжественных случаях обязательным посещением всей гимназией церкви. Мы собирались в гимназии, и оттуда нас вели в церковь, где мы со скукой, невнимательно выстаивали положенное время. Говели мы, конечно, обязательно, причем часть служб исполнялась в актовом зале. Духовником был преподаватель Закона Божия. Это одна из самых нелепых вещей. Разумеется, гимназисты не могли искренне исповедовать свои грехи учителю, который, как член педагогического совета, присматривал за их поведением и наказывал за проступки. Собственно, Бершадский был умный, образованный учитель и часто умел нас заинтересовывать. Разумеется, Катехизис наводил на всех непроходимую скуку. Но в библейской и евангельской истории Бершадский часто читал нам описание страны, ее природы, нравов жизни и т. п. Он при этом показывал карты и рисунки, и мы слушали все это с интересом. Он часто разговаривал с нами о разных предметах и не оставался без влияния на нас, не в смысле строго религиозном, а в отношении общего развития.
Что касается религиозного настроения, оно у нас было очень слабо. Дети поступали в гимназию верующими. Я, например, был в детстве чрезвычайно религиозен. Но в гимназии вера у всех быстро тускнела и исчезала. Нужно вспомнить, что это были знаменитые 60-е годы, эпоха систематического подрыва веры, монархии и даже вообще всех исторических основ. В литературе развивался «нигилизм», отрицание всего, чем жило общество. Во главе отрицания стоял «Современник* Чернышевского, где Добролюбов пустил в ход «свистопляску», хихикающее зубоскальство по поводу всех проявлений русской жизни, за исключением жизни мужика, изображаемого мучеником и страдальцем и идеализируемого настолько же, насколько унижалось все, чем держался общественный и государственный строй, все то, что, собственно, и составляло Россию. А положительные идеалы рисовал Чернышевский в романе «Что делать?», идеалы того социализма, который Карл Маркс уже тогда определил как «утопический». Но истинным властителем дум молодого поколения был Д. И. Писарев, который принял «нигилизм» под свою защиту и был, по существу, гораздо более глубоким отрицателем, чем Чернышевский и Добролюбов. Мы, молодежь 60-х годов, серьезно считали Писарева великим умом и зачитывались его, в сущности, очень бессодержательной болтовней, бесконечные водянистые разводы которой мне уже в университете стали казаться совершенно пустопорожними. Но в гимназии это был мой пророк и учитель.