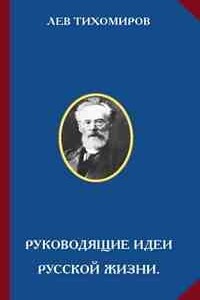После какого-то столкновения с горцами, может быть при захвате кочермы или при разорении аула, в Геленджик были приведены две молоденькие девушки, сестры, которых забрала к себе начальница гарнизона. Обе значились пленницами, не были приписаны ни к какому сословию, не имели никаких прав, однако не были и крепостными, а скорее находились в опеке у взявших их. Начальница гарнизона окрестила их и назвала одну Натальей, другую Любовью. Наташу она отдала моей матери, Любу — какой-то другой даме. Как она их обращала в христианскую веру, не знаю. Вероятно, очень просто: попали к русским, значит, нужно принять и русскую веру. Однако же обе они вышли очень религиозными. Магометане, принимающие православие, вообще отличались набожностью; так было по крайней мере в стародавние времена. Скоро обе они были выданы и замуж за наших же солдат и вышли прекрасными женщинами. У Любы было потом чуть ли не трое сыновей, известных рыбаков в Новороссийске. У Наташи детей, кажется, не было или, может быть, умерли в младенчестве. До своего замужества оставалась в нашей семье вроде прислуги, а наполовину как воспитанница и горячо ко всем нам привязалась. Замечательно, что и Наташа, и Люба отличались каким-то особым благородством характера и перенимали все манеры у господ, а не у прислуги. Не было у них ни грубых слов, ни лживости, ни воровства, ни лености — ни одного из тех пороков, которые так портят даже порядочных людей из русской прислуги. Это тоже обшечеркесская черта: поступая в услужение, они смотрят на себя как на членов семьи, держат себя с достоинством и отличаются редкой верностью. На сторожа-черкеса всегда можно положиться больше, чем на русского: не выдаст и нс продаст.
Собственно, как прислугу я совсем не знал Наташу, был слишком мал, чтобы ее помнить, узнал же только впоследствии, потому что она никогда не прерывала сношений с нашей семьей.
Аграфена, общая наша няня, была совсем иной тип. Я. конечно, и ее помню лично только уже в других городах. Полухохлушка-пол у румынка из Бессарабии, она по-своему тоже любила господ, а уж особенно нас, детей, но без зазрения совести тащила всякое господское добро в свой огромный сундук, который вечно держала на строжайшем запоре. Лгунья была тоже чрезвычайная. Но умная, домовитая, находчивая, практичная, она оставалась большой опорой для мамы, особенно когда нам пришлось жить одним, без отца. Своих детей у нее был только один сын Яков — Яшка, как его все называли. С мужем ей редко приходилось жить, так как она всюду сопровождала маму. Впрочем, ни она, ни Алексей Гайдученко не обнаруживали по этому поводу большого горя.
Алексей — это был тип солдата-мужика, не задетого даже фронтовой культурой. Высокий, дюжий, неуклюжий, очень любивший выпить, он был насквозь пропитан запахом «тютюна», крепчайшего табака. Со своей огромной «люлькой» (трубкой) он не расставался. Помню, бывало, побежишь на кухню: Алексей развалился на кровати и спит, а у самого висит изо рта потухшая люлька, крепко зажатая ь зубах. Он был очень добродушен и разве под пьяную руку побьет жену, которую очень уважал и боялся. Он хорошо знал лошадей и ухаживал за ними; иногда у Гайдученки бывали и свои лошади, конечно, одна какая-нибудь, которую он выращивал для продажи на нашей конюшне, на наших сене и овсе. В одиночной жизни отца он и стряпал ему кое-какие первобытные блюда — щи да кашу. Верхом же его кулинарного искусства было какое-то яблочное пирожное, которое у них называлось «пшадским», потому что Гайдученко научился делать его во время пребывания с отцом в Пшаде. «Алексей, — говорил ему отец, — я пригласил пообедать к себе полковника Остовского… Надо бы нам сделать что-нибудь получше». «Пшадское пирожное сделаем»* — отвечает Алексей с достоинством. Впрочем, он умел еше хорошо готовить вареники со сметаной, до которых был великий охотник пан Остовский. Приходит иногда к отцу и охает: «Живот болит, мочи нет». «Ну, — говорит отец, зная его штуки, — видно, приходится тебя лечить. Готовь, Алексей, нынче вареники». И, убрав несколько тарелок вареников со сметаной, Остовский прояснялся; «Ну вот, слава Богу, полегчало, ничего не болит». Сам изготовитель лекарства, Алексей, должно быть, отроду никогда не болел. Не проявлял он и никаких следов умственной или вообще духовной жизни, ел, пил, спал, мог бы при своей медвежьей силе и работать, но у нас мало было работы, разве на покосе или на рубке дров. Но в странствиях отца он был ему очень полезен. Заседлать ли коня, заложить ли лошадей, завязать веревочками порванную упряжь и сбить кольями поломанную телегу — на все это он был мастер. Умел и добыть пищу в пути. Во время странствий отца по Черноморью там была такая патриархальность и обилие, что казачки ничего нс продавали. У всех была своя пища, людей, которые ее покупали бы, в станице никогда не бывало. Хохлушке казалось дико продавать, например, молоко или яйца, да она и не знала, что за них спросить. И вот ходит Алексей по хатам, нигде ничего не продают. А барину нужно принести чего-нибудь поесть. Алексей вдохновляется, берет добрую кринку молока и уходит. Тут только баба подымает крик: «Да ты мой глечик отдай назад!» Ну, глечик он добросовестно приносил потом обратно. Так же прихватывал он и краюху хлеба. Но яичницу хохлушка уже соглашалась сделать за деньги. Она брала не за яйца, а за свой труд, и, конечно, брала гроши. Умел Алексей и на почтовой станции уличить смотрителя, что он врет, будто бы лошадей нет. Но зато когда они с отцом взбирались наконец на перекладную, то Алексей моментально засыпал мертвым сном, и отцу приходилось постоянно придерживать его за кушак, чтобы он не слетел на землю на каком-нибудь ухабе.