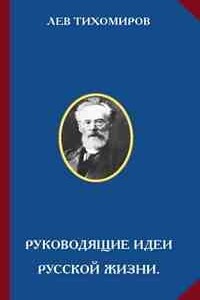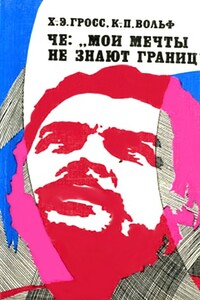Тени прошлого. Воспоминания - страница 151
В сущности, наиболее целесообразно с революционной точки зрения в это время было то, что усиленно повел Плеханов, то есть совершенный отброс нароловольческой программы, обращение к рабочему классу с чисто социально-демократической пропагандой. Плеханов, никогда и не принимавший народовольческой программы, конечно, легко стал на эту точку зрения. Но русская революционная интеллигенция не могла стать на классовую точку зрения; это было ей совершенно несвойственно. К социал-демократизму она относилась прямо с антипатией. Она была демократична и социали-стична, но не могла признать себя тем, чем действительно и не была, — то есть силой пролетарской. Она хотела политического переворота на основах свободы и демократии, а вовсе не диктатуры пролетариата.
Поэтому она оставалась в огромном большинстве при народовольческих идеях. А между тем на почве этих идей фактически, в сущности, почти ничего нельзя было делать, кроме пропаганды и ведения организации, которой невозможно было дать практического дела. А известен общий закон организации: что численность членов организации всегда прямо пропорциональна работе, которую организация способна им дать. Если дела, работы, действия нет, то в члены организации не идут и даже разбегаются из нее.
В довершение всего в исполнительном комитете погибли все наиболее выдающиеся деятели прошлого[32].
Его состав необходимо было пополнить и в то же время некем было пополнять. Состав исполнительного комитета «Народной воли» всегда поддерживался по системе кооптации, то есть не выборами партийными, а привлечением новых членов самим же комитетом. После 1 марта остатки прежнего комитета съехались в Москву и первым делом должны были пополнить свой явно недостаточный комплект. Но людей достаточно пригодных было так мало, что на съезде так и формулировали: «Нужно принимать по пониженному цензу». Так и сделали, потому что иначе и нельзя было ничего сделать. Но когда обстоятельства стали гораздо труднее прежних, то есть, значит, требовали людей более сильных и крупных, пониженный ценз, разумеется, не мог создать ничего революционно путного.
В общем, обстоятельства были крайне плохи и не обещали ничего доброго. Численно революционные силы приливали к «Народной воле», но качественно были плохи.
Стефанович был в числе эмигрантов, явившихся из-за границы на помощь революции. Это был порыв, конечно, благородный, но совершенно бесполезный. Его приняли в члены комитета, и он мог лично увидеть, как слаб качественно его состав. Тогда из людей крупных оставались только Мария Николаевна Оловеникова, вдобавок больная, да Савелий Златопольский>21. Оловеникова скоро запросилась за границу, отчасти по болезни, а более всего потому, что видела полную пустопорожность «деятельности» комитета и невысокий состав его, да и всю русскую обстановку, исключавшую возможность чего-нибудь крупно революционного. Ее отпустили, дав ей поручение организовать за границей печатный орган партии.
Стефанович, при своем уме, быстро увидел, что никакого дела у комитета нет. Все сводилось к беганью по кружкам молодежи, а более всего — к беганью от полиции. Постоянно «проваливались» то тот, то другой, в связи с этим и другим приходилось менять паспорта, менять квартиры, даже совсем уезжать в другие города. Я тогда три раза каким-то чудом избегал ареста, а Оловеникова прямо сбежала с квартиры, заметив случайно бороду сыщика, высовывающуюся из-за шкафа. Эту квартиру полиция захватила, но Мария Николаевна успела спастись. Это было в Москве.