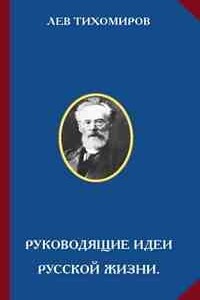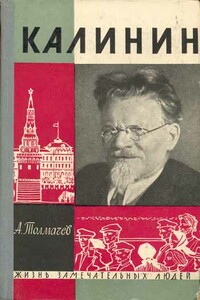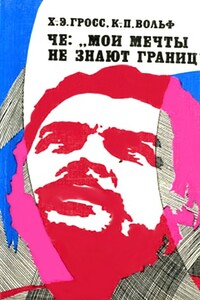Князев был типичный нигилист-«семинар». Бедный, отрепанный, в какой-то длинной развевающейся хламиде вместо пальто, очень молодой, худой, с заостренными чертами лица… это было лицо старой, злой бабы, без малейших признаков растительности. Угрюмый, озлобленный, самолюбивый, с огромными претензиями, с самыми посредственными способностями, Князев был бы, однако, способен к развитию, если бы оно было ему дано. Он мог и усомниться, и подумать своей головой, мог и полюбить человека. К революции он пристал без колебаний, без разговоров, погрузился в нее как в свою природную стихию. А впрочем, ничего в ней не мог сделать, потому что не имел никакого таланта, ни в каком отношении.
Филипченко был человеком совсем другого типа. Красивый, из зажиточной семьи, в недорогом полушубке (из демократизма) и в золотых очках (из барства). Он работал в академии прекрасно, интересовался своим предметом. Не имея никакого вкуса и способности к каким-либо высшим вопросам, он был, однако, очень умен в более наглядных предметах, обладал большим здравым смыслом и хорошей волей. Радикальничал он недолго и, вероятно, больше по инерции и не предвидя от того никаких последствий. Он, конечно, мог бы и втянуться в революцию, но месяца через два-три профессор, у которого он работал, заметив что-то ненормальное в его поведении, серьезно переговорил с ним, убеждал его бросить глупости и заняться серьезной работой. Филипченко послушал доброго совета и круто порвал с нами, объявив начисто, что ни в какие революции не верит и ничего с нами делать не намерен.
Так он и скрылся с горизонта. Тогда я очень жалел о нем. Впоследствии я слышал, что он завел передвижную паровую молотилку, с которой зарабатывал много денег в Орловской, кажется, губернии.
За время пребывания с нами он доставил «делу» сто пятьдесят рублей. Эти деньги были по его хлопотам пожертвованы одним лицом в пользу недостаточных студентов. Мы без труда нашли десяток студентов, которые выдали нам пустые расписки в получении кто десяти, кто двадцати рублей, расписки представили жертвователю, а деньги передали в Петербург, в кассу чайковцев.
Делать такие обманы мы нисколько не стеснялись. Деньги шли «на дело» — это для нас уже начинало оправдывать если не все, то очень многое.
В то время, когда я только что познакомился с Филипченко, он находился в связи с некой Андреевой>53 (кажется, Анна Васильевна), жившей на той же даче. С ней он тоже скоро разошелся. Когда я сообщил ему, что, по словам Князева, Андреева собирается открыть какую-то мастерскую, Филипченко грубо засмеялся и сказал: «Ей годится одна мастерская: детей делать!»
Это действительно была личность любопытная по испорченности.
Андреева, впоследствии попавшая подсудимой на «процессе 193-х», была провинциальной актрисой. Гамов столкнулся с ней в Таганроге, как, вероятно, сталкивался с ней не один десяток мужчин.
В те времена, то есть в 60-е годы, была мода спасать падших женщин, по «Что делать?». Одна компания студентов выкупила, например, из публичного дома женщину, начала се «развивать», отучать постепенно от пьянства, а чтобы постепенно отучать от разврата, назначили ей в сожители одного из своей среды… Вся эта мерзость, не подозревающая своего собственного разврата, не спасла женщину, которая сбежала от своих развивателей опять в публичный дом. Гамов тоже стал спасать Андрееву, развивать ее, говорить ей о высших интересах и тому подобном. Андреева набралась у него громких слов, но осталась прежней. Это был какой-то болезненно жирный кусок мяса. Вечно она с кем-нибудь путалась — и, однако, толковала о революции… Будучи арестованной, она умудрилась в тюрьме приманить к себе в камеру часового жандарма и, по прибытии в Петербург, родила от него в тюрьме же ребенка.
Другой такой развратницы, кроме еще Блавдзевич, я даже не слыхал в революционной среде. Мы, впрочем, то есть московские чайковцы, не имели с Андреевой никакого дела.