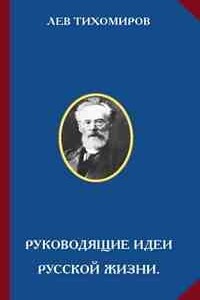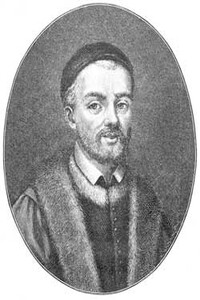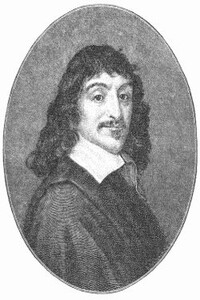Зеленую молодежь, ловко задевши ее благородные чувства, легко подбить на что угодно. В значительной мере этим пользуется и политическая агитация. Но у нас в гимназии она совершенно не проявлялась. В мое время училось несколько человек, впоследствии получивших громкую революционную известность, но во время гимназического обучения ни один из них не проявлял никаких революционных стремлений. Андрей Желябов (годом моложе меня по классу) не казался даже особенно развитым юношей и если проявлял себя чем-нибудь, кроме хорошего учения, то разве только далеко нс хорошим поведением, вплоть до шляния по публичным домам. Замечу, кстати, что он был родом крепостной крестьянин Феодосийского уезда и освобожден только в 1861 году. Но отец его был очень зажиточным мужиком. Крепостное право не лежало на нем каким-нибудь гнетом. Сам Андрей Желябов во время гимназического обучения никак не напоминал богатыря, каким стал впоследствии. Это был тоненький, худенький юноша, с большими способностями (он и кончил курс с золотой медалью), но большой шалун и даже безобразник — и никаких политических идей не имел, по крайней мере не проявлял. У нас были десятки гимназистов более развитых, так что я совсем не обращал на него никакого внимания.
Нужно сказать, что у нас не проявлялось не только революционных стремлений, но среди гимназистов совершенно не замечалось даже нигилистических типов. У нас не щеголяли «отрицанием», резкими манерами, нечесаными волосами, неряшливым костюмом. Может быть, это происходило оттого, что в Керчи гимназисты были сравнительно сильно связаны с обществом. Конечно, все мы были пропитаны, так сказать, культурно-отрицательным направлением. Религия у всех была подорвана, монархический принцип — также, все были проникнуты идеями свободы и демократизма, бродили в нас даже идеи смутного социализма. Но у нас не собирались приступать к революции и не отбрасывали культурных привычек хорошего общества. Сам я кончал курс с намерением серьезно работать в университете, думал о научной карьере, а в отношении экономическом смотрел так, что в России требуется думать не столько
о распределении богатств, как о развитии производительных сил народа, потому что теперь, как ни распределяй, все равно на каждого достанется немного. И эта мысль — о необходимости собственно культурной работы, — полагаю, была господствующей у нас.
Но чисто нигилистические типы из других мест набегали по временам и к нам. Помню, я раз по пути в Новороссийск встретился с группой тифлисских гимназистов, впрочем, чисто русских, которые меня поразили ярко выраженным нигилизмом. Особенно интересен был один, Ружечко, который разыгрывал из себя какую-то смесь Базарова с Марком Волоховым. Он у тифлисцев считался чуть не гением. Ничего, однако, кроме резкости суждений, я у него не заметил. Потом, по прибытии в Новороссийск, я зашел к нему. Его тут дожидался отец, военный врач, с которым они должны были ехать куда-то дальше. Ничего более жалкого, чем этот отец, нельзя себе представить. Высокий, крупный, почти толстый и даже с неглупым лицом, в военном докторском мундире, он с самым противным низкопоклонством ухаживал за сыном и его идеями, стараясь напустить на себя самый передовой вид. Даже и передо мной, совсем мальчишкой, он тотчас начал салюты прогрессивному флагу. Ни с того ни с сего он провозгласил, что главное наше суеверие составляет эстетика, но что, впрочем, она уже погибает, «разбитая орудиями всех батарей наших университетов». Я смотрел на эти кривляния с недоумением, а молодой Ружечко сидел молчаливый и мрачный: кажется, ему было несколько стыдно за своего передового родителя.
Впоследствии я видел немало этих «нигилистов», но они всегда возбуждали антипатию. Мне в них чуялась просто недостаточная развитость, и нужно прямо сказать, что среди крупных революционеров вовсе не было нигилистического шутовства горохового. В гимназии же мои убеждения, как я сказал, отливались постепенно в ту формулу, что обязанность каждого из нас состоит в развитии русской культуры. К исполнению этой обязанности я и готовился, работая над собственным развитием.