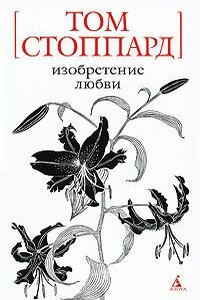Одетта. (нарочито громко). Вот видишь, сын, в этом доме не принято выражать соболезнования даме, потерявшей единственную дочь.
Патрисия. Как, мадам, и вы тоже?
Слесарь. (Патрисии). Скажите ей, что в балете главное — танец и пантомима. Никаких слов — все средствами пластики.
Одетта. Что значит — тоже? Моя несчастная дочурка Катрин Дюран, в замужестве Бертильон, на днях скончалась, не приходя в сознание.
Патрисия. Что?!
Катрин. Вот как! (Одновременно).
Одетта. (повернувшись к Катрин и увидев маску Дсоноквы). Боже! Кто это?
Катрин. (подходя к Одетте и наклоняясь над ней). Дух скоропалительно скончавшейся дочери… мама. Не правда ли похож на Мельпомену? Ах да, ты же никогда не любила театр. (Начинает расхаживать по сцене. Обращение " мама" произносит с неизменной издевкой.) Ты говорила, там работают одни гомики и шлюхи. Театральные афиши служили тебе чем-то вроде плевательниц. Однако скромный юноша с пушком под носом и млечным путем мелких розовых прыщиков на лбу наперекор тебе ранними предрассветными утрами петлял меж рекламных тумб. В руке его, мама, были маникюрные щипчики с изогнутым клювом, подаренные тобой вместе с книгой " Мальчик становится мужчиной". И если бы ты, мама, презрев свои аристократические привычки, заглянула в ящик его стола, ты бы обнаружила там десятки изображений мадмуазель Перрье.
Одетта вздрагивает.
Впрочем, эта фамилия тебе наверняка неведома. Ты ведь слыла комильфо, верно?
Одетта. Э-э…
Катрин. Нет, она не была шлюхой, эта мадемуазель Перрье. Ну так, заурядная инженю, наивная девочка, взирающая на мир широко распахнутыми (заглядывает в лицо Одетты) васильковыми глазами. Мелкая шлюшка, не более. Мужчины с толстыми сигарами, толстыми животами и толстыми портмоне внимания на нее не обращали. Правда, главреж театра, человек с угасшим темпераментом, но зато необыкновенно творческий, внушавший ей некогда благоговение, слегка поизносившееся к ее третьему аборту, считал себя в некотором роде ее должником. И потому время от времени все еще давал ей роли, деньги и туманно инкриминировал ей талант.
Одетта (вспыхнув). Неправда! Он никогда не говорил о таланте.
Катрин. Тогда о чем же?
Одетта. Об уходящей молодости, об утраченных иллюзиях. О том, что прожил свой век с женщиной, которую не любил, но которая всегда его понимала и поддерживала. О том, что всю жизнь хотел ребенка, даже двух — мальчика и девочку, — но жена страдала неизлечимой формой бесплодия.
Слесарь (протяжно зевнув). Какая длинная история. Напоминает ирландскую сагу.
Катрин (иронично). Мужчины так любят нерожденных детей, мама, что рожденные всякий раз застают их врасплох. А весть о беременности любовницы вообще сражает наповал. Седеющим ловеласам, вероятно, следовало бы волочиться за беззубыми матронами — ни тебе досады от менструаций, ни потрясений от зачатий.
Одетта. Он не был ловеласом. Он хотел, чтобы я вышла замуж, устроила свою судьбу…
Катрин. И потому был несказанно счастлив, увидев свою стареющую девочку в обществе прыщавого юнца. Творческий вечер мадемуазель Перрье с павлиньим разнообразием сценического гардероба, с биссированием, с криками " браво", с банкетом и хорошей прессой — какое чудное прощание Пигмалиона с Галатеей!
Одетта. (грустно). Да, это было великолепно.
Катрин. Но постепенно фанфары смолкли, обелиск был без остатка поглощен венком, и жизнь мало-помалу перетекла в мансарду.
Одетта. Да, в маленькое помещеньице под крышей на улице…
Катрин. Руссо. (Останавливаясь рядом.) На улице Руссо, напротив магазина с жестяной бригантиной у входа и чешуей бижутерии внутри. В квартире были цветочные горшки с кактусами и каланхоэ, скрипучая кровать, очевидно, помнящая Мопассана, шкаф — родственник тигра, такой темный, как если бы тигра произвела на свет таитянка. Дверь у шкафа не закрывалась, и весь пестрый карнавал платьев, окропленных белой луной, казалось, норовил выплеснуться среди ночи на истоптанный коврик и пуститься в самбу, словно во все тяжкие. Туда, в эту неказистую комнатенку, в это обиталище выносливых пауков и аскетичных тараканов, и перекочевал однажды пятнадцати… нет, уже шестнадцатилетний любовник. Кажется, это был март.