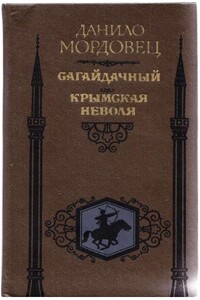— Да, — заметил один угрюмый и молчаливый офицер по фамилии Суромилов, — при царе Алексее Михайловиче, сказывают, не то было. Он сам любил охотою тешиться, а особливо соколиною... Мне дед рассказывал. Тогда дворянам хорошо было жить: хочешь — служи, не хочешь — дома охотою забавляйся. Хорошо было, тихо.
— Да и самого царя Тишайшим звали, — вставил Ханыков.
— Ну, сынок не в батюшку, — заметил Кропотов. — И в кого он уродился, толчея эдакая?
— Сам в себя, а обликом, говорят, в князей Прозоровских, — отвечал Баранов.
— Ну, не все и Прозоровские такие, — сказал Кропотов. — Я знаю одного Прозоровского, так это тихоня. Он теперь монах в лавре здесь.
Левин вспомнил, что он слышал о молодом Прозоровском от старца Варсонофия, который видел его в Неаполе с другими русскими навигаторами и слышал, что тот хочет уйти на Афон. «А чего доброго это он и есть, — подумал Левин. — Вот бы и мне в лавру... А то к себе в Пензу, в глушь — там тише, к Богу ближе».
Катер, между тем, пройдя Аптекарский остров и Карповку, приближался к Неве. Солнце взошло. Город просыпался.
— Теперь, господа, ко мне на утреннюю закуску, — сказал Баранов. — Все равно уж спать не будете, а то и днем выспитесь.
— Идет, — отвечало несколько голосов.
Катер пристал к берегу. Там приехавшие наткнулись на оригинальное зрелище. Массы голубей и воробьев буквально покрывали землю, воркуя, чирикая и наперебой хватая зерна ржи, пшена и крупы, которые Фомушка, стоя в позе сеятеля, бросал в разные стороны из висевшего у него на шее мешка. По временам он выкрикивал:
— Эй вы, чубарый! Не смей трогать волохатого!
— Гуленьки-гулю! Чего, дурашка, боишься? Ешь не сеянное, не жатое...
— Постой, вор-воробей! Я до тебя доберусь, драчун экий!
И старик бежал за провинившимся воробьем. Но особенно он строго относился к воронам, которые тоже из любопытства подходили к трапезующей птице.
— Эй вы, немцы! Куда лезете! Это не для вас, для вас царь-батюшка мясцо человечье доставляет... Кш-кш! немецкое отродье!
Офицеры с любопытством смотрели на этого суетящегося старика, воевавшего с воронами и покровительствовавшего голубям и воробьям.
— Здравствуй, дедушка, — сказал Кропотов. — Что поделываешь?
— Сирот кормлю: богатыми у бедных краденое, у богатых перекраденное, бедным даденое, — отвечал Фомушка по обыкновению загадочно.
И вслед за тем, подняв полы своего ветхого кафтанишка, он бросился бежать вдоль берега, торопливо приговаривая:
У боярушек беда —
Оголена борода.
Нос вытащил — хвост увяз.
Хвост вытащил — нос увяз.
Офицеры захохотали: «Вот чудак!»
— Это Фомушка юродивый, — заметил Левин.
— Однако он загнул насчет бород, разбойник, — засмеялся Кропотов.
— Это еще ничего. А в Москве так он почище коленце выкинул, — говорил Баранов, — когда вышел указ о бритии бород и выбита была пошлинная на бороды деньга, он привесил эту деньгу козлу на шею и пустил его по Москве... Вот хохоту-то было! Хорошо, что его потом раскольники спрятали где-то, Фомушку-то, а то бы быть бычку на веревочке.
Квартира Баранова была недалеко от пристани, и вся компания через полчаса угощалась уже радушным хозяином.
Общество оживлялось все более и более. Кропотов доказывал, что прежде люди были лучше, потому что любили охоту. Суромилов приводил примеры из русской истории вообще и из истории своего деда, в особенности о том, что соколиная охота лучше собачьей. Ханыков бренчал на гуслях, найденных у хозяина, запевал разные песни и не кончал их. Один Левин по-прежнему был задумчив.
— Ну, Левушка, спой лучше свою новенькую, — пристал к нему Кропотов.
— Спой! Спой! — настаивали другие.
Левин отказывался. Видно было, что он тяготился своим положением, места, что называется, не находил. Даже веселое общество товарищей было ему в тягость. Но его все-таки заставили петь песню о смерти царевича.
По-прежнему он пел задушевно, страстно. По мере продолжения песни он становился все возбужденнее, а лицо его все более и более бледнело. Пропев до того места, где говорится:
Уж и гусли вы, гуслицы!
Не выигрывайте, гусельцы, молодцу на досадушку:
Как было мне, молодцу, пора-времячко хорошее, —